
|
"БУДУ ЛЮБИТЬ ВСЕГДА"
Анатолий Маркуша |
 |
— П-прочли бы, а? Пожалуйста, мы все п-просим. Честно говоря, мы не с каждой с-строчкой согласны, но все равно... Он писал книгу! П-понимаете?
Разговор не получался.
Ребята заметно нервничали. Их волнение каким-то неведомым образом действовало и на меня, хотя я мало понимал, о чем речь.
Не без труда удалось выяснить: неделю назад Вундеркинд был, с ним спорили, ссорились, соглашались или не соглашались, иногда — правда, не слишком часто — им восхищались, он постоянно вызывал удивление, и вот — нет Вундеркинда. Нет. Больше ни подраться, ни помириться. Осталась эта синяя папка, набитая разрозненными листками, исписанными его аккуратным, похожим на девчоночий почерком, наблюдения, мысли, его, Вундеркинда, радости и обиды. Все-таки это непостижимо — был человек — и нет человека, осталась только фотография. Он смеется, показывает белые, ровные, как на подбор зубы...
Рукопись вундеркинда
1. Допустим, я прихожу в редакцию и кладу на стол папку, и покорно кланяюсь:
— Вот, написал книгу, пожалуйста, познакомьтесь.
Они, в редакции, оборжутся: нахал, мальчишка! Книгу сочинил. Что ты видел, а туда же — в писатели?.. Уморил: "Будьте любезны, пожалуйста, прочитайте..." Делать нам нечего?!
Может, в глаза ржать не станут, но спровадят обязательно.
Почему-то все взрослые всех подряд ребят считают дураками, а себя, наоборот, умными. Как закон! Не спорю, среди взрослых умные, конечно, есть, но это еще вопрос: а какой они составляют процент от общей массы?
И потом, правильно ли думать, если кто-то закончил институт, пусть даже заделался кандидатом каких-нибудь наук, так он уж обязательно и очень умный?
 |
Могу привести пример. Приходит в дом гость, дядя Лева. У хозяина сын. Так? Ребенку пять лет. Он нормально читает — хоть букварь, хоть газету.
— Здорово, барин! Как звать? — голосом петрушки выкрикивает дядя Лева (барин — для шутки, наверное). Получив ответ на свое "как звать", интересуется:
— А почему у тебя глазки черненькие? Или не моешь?
— Мою, — говорит парнишка, а сам думает: "Ну, идиот!"
— А кого ты, барин, больше любишь — маму или папу? — не успокаивается дядя Лева.
"Болван!" — снова непочтительно думает мальчишка, но отвечает. Попробуй не ответь — скандала не оберешься: старших уважать полагается. Это как дважды два!
— Больше всего я люблю подарки.
— Во дает! — то ли изумляется, то ли восхищается дядя Лева и тут же начисто про мальчишку забывает.
Знаю! Сейчас мне скажут: пятилетний мальчик думать так не может — мал. Еще как может! Этим пятилетним был я и думал точно так. А дядя Лева — родственник моего отца, какой-то "юродный" мне дядя. Он закончил Московский автомобильный институт, работает в НИИ и, между прочим, очень гордится своим верхним образованием. Когда я тут недавно спросил у него, кто первым и в каком году перелетел через Атлантический океан, так дядя Лева не ответил, а начал заводиться — пусть яйца курицу не учат! Это правильно? Если я знаю, а он — нет, так почему бы у меня не поучиться?
Одного примера мало? Могу привести еще сто!
Было мне десять лет. Начался третий класс. Зимой родители прибавили мне самостоятельности — разрешили без сопровождения взрослых ходить на каток. Вот и пошел... С Олей. Ей тоже десять лет было. Мы в одном классе до сих пор учимся. И ее мама попросила мою маму, чтобы я Олю взял с собой — у них папа болел и всякое такое. Мне это не очень понравилось, но как сказать тут "нет"... То есть сказать проще всего, а объяснить — почему?
Мы накатались и пришли с катка к нам. У меня ключ был. Сначала думали чаю попить, но нам так спать захотелось — может, мы перекатались, — что не успели на диван прилечь, захрапели.
Как мама пришла, как пледом нас накрыла, не слышали. Накатались, спим. Теперь вопрос: чего тут особенного? Правда, ничего? Я тоже так считаю.
Но притащилась соседка из сто восьмой квартиры. Марья Алексеевна. Между прочим, лаборантка, химик! Она тогда еще работала в научно-исследовательском институте... Мы с Олей только-только стали глаза продирать, лежим на диване и не поймем толком, где находимся, а эта Марья Алексеевна как понесет:
— Ангелочки, маленькие мои! Ну прямо молодожены...
Не дура? Дура!
Оля вся красная стала, готова зареветь. А я так прямо и сказал тогда:
— Вы, Марья Алексеевна, дура!
На мое счастье, как раз в этот момент отец домой вернулся. Представляю, какой бы разнос учинила мне мать без него!
Отец Марью Алексеевну аккуратно под уздцы из квартиры вывел, а мне только и сказал:
— Нехорошо, Кирюха. Пожилой все-таки человек.
Правильно. Старых, много наработавших людей, которые в жизни опыт и все такое имеют, уважать надо. Никто не спорит! Но ведь пожилой человек — еще не профессия.. И что это будет, если все старики станут лезть во все дела, давать советы и "ЦУ"?! Старики, между прочим, тоже разные. Наверное, вам показалось, что я терпеть не могу взрослых. Это верно. Но не всех подряд. И эту книгу я решил написать, чтобы те, кто считает себя над нами, увидели и поняли, как мамы, папы, учителя, соседи, продавцы магазинов, контролеры в кино, милиционеры, буфетчицы и многие другие-прочие портят нам, ребятам, жизнь, хотя в нашей стране существует только один привилегированный класс — дети. Значит, мы!
Пишу и переживаю: а кто поймет, кто откликнется?
Но вообще-то я зря волнуюсь — скорее всего, никто не захочет напечатать мою книгу и понимать будет нечего.
Но кое-какая надежда у меня все-таки есть:
мы растем и вырастем, станем взрослыми, и, может, тогда люди меня услышат!
Так что не буду огорчаться раньше времени. Надо писать, складывать готовые
странички в папку, а там... Поживем — увидим !
На некоторые мои личные наблюдения и вопросы хотелось бы получить откровенные ответы старших товарищей.
Кто-то — чаще это женщина — собирается выйти из дома, например, в гости, в театр или на какое-нибудь собрание. И три часа собирается: специально моется, шикарно наряжается, причесывается (бывает, даже в парикмахерскую по такому случаю тащится), пудрится и душится... Правильно? В то же самое время этот человек, находясь дома, разгуливает перед своими в старом, застиранном халате, на халате не хватает штук трех пуговиц, на ногах растоптанные, как лыжи, тапочки, волосы врастрепку и тэ дэ.
Можно ли из этого наблюдения сделать вывод, что чужие очень многим куда ближе, чем свои... ну-у, члены семьи, дети? Или еще так посчитать можно: вы нафуфырились перед уходом из дома, чтобы посторонним пустить пыль в глаза — знай наших! Это что - тщеславие?
Другое наблюдение.
Около нашего дома, с его внутренней стороны, сделаны довольно высокие железные козлы из водопроводных труб. Каждую субботу и каждое воскресенье кто-нибудь из жильцов непременно часиков в шесть утра вытаскивает и развешивает на козлах ковры и принимается выколачивать из ковров пыль.
Бум-бум-бум! Нажаривают так, что стекла в окнах третьего этажа вздрагивают и жалуются.
У многих для выбивания пыли имеются даже специальные выбивалки — такие, плетеные, по виду напоминают саперную лопатку, только закругленную. А у кого специального инструмента нет, те лупят палками.
Становится ли обработанный таким способом ковер много чище, не знаю. Куда девается пыль из ковра — тоже, между прочим, задача. Поглощается окружающей средой? Возьми, Боже, что нам негоже?! Сомнительно...
Очевидно другое: один ухаживает за своим ковром, пусть даже и очень дорогим его сердцу, а тысяча человек должны не спать. Подъем! На зарядку выходи! И это в нерабочий день, это чуть свет. О какой же справедливости можно говорить тогда в более серьезных масштабах, а? Может, я чего-то не понимаю?
Еще один вопрос.
Меня рано стали учить шахматам. Название фигур, правила их расстановки я запомнил сразу. Начал двигать: пешка с е-2 на е-4... Не скажу, что научился играть всерьез, но такие штуки, как длинная и короткая рокировки и киндермат, освоил. И мне стало интересно: можно ли в шахматах предусмотреть все возможные варианты?
Стал спрашивать у знатоков. И один сообщил историю мудреца — перса, изобретателя шахматной игры, который попросил в награду у своего шаха столько пшеничных зерен, сколько получится, если на первое поле положить зернышко, на второе — два, на следующее — четыре и так далее, на все клетки. Самые главные ученые считали-считали, пока оказалось — никаких богатств всей персидской земли не хватит, чтобы отвалить мудрецу этакую премию.
Рассказывал мне эту байку с гордостью: вот, мол, какая неисчерпаемость таится в шахматах? Понял? Чувствуешь?
Понять-то я понял, но думаю, а для чего вообще играть в эту игру, если никакой жизни не может она прибавить? Жалко, не могу спросить у Каспарова об этом — не знаю, как к нему подкатиться...
Ну и последнее наблюдение.
Один раз я был в гостях у бабушки. Она старенькая, ее все считают очень разумной, ходят советоваться к ней, по всяким делам — тоже. Когда я у нее был, зашел сосед и стал просить сколько-то денег взаймы, до получки.
— Небось на водку просишь? — Это бабушка, слышу, спрашивает.
— Не буду врать, Михайловна, выпить охота: все горит внутри, честно говорю.
— И опять напьешься, и опять будешь скандалить, а виноватой окажусь я?
Тут сосед начинает клясться, что лишнего не позволит, что все будет шито-крыто, никакой комар носа не подточит, и в таком же духе еще много чего наговаривает. Бабушка выслушивает — надо же! — и давай соседа учить: если перед выпивкой проглотить грамм сорок масла или стакан жирного мясного бульона, тогда водка его не возьмет и он будет, как она выразилась, "в порядке". И требует: сделает сосед так — она ему в долг даст, а не сделает... Ничего, дескать, не поделаешь.
— Так для чего тогда, Михайловна, пить, если не забалдеешь? Выходит, зря мучиться?
Слушал я этот разговор и думал: как же так — взрослые нас день и ночь учат, что правильно, а что нет. Так? А сами не знают, где хорошо и где им бывает плохо?
Эти вопросы вам, тем, кто будут читать эту книгу. Подумайте, одни ли глупости занимают нас, ребят, как вам кажется?
2. То лето было как и всякое другое: июнь плюс июль плюс август. Только мне казалось, что в каждом месяце сделалось дней по шестидесяти. И ужасно хотелось, чтобы скорее был сентябрь! Дожить — и в школу! Честно сказать, не так уж я мечтал узнавать что-то новое, обогащаться всякими полезными сведениями, как хотелось стать учеником. Ученик — не просто мальчик, ученик — это о-го-го!. Он каждый день ходит в школу, а там не в детские игрушки играют — там занимаются серьезными вещами: пишут, например, или считают! Ему обязательно покупают ранец, краски, пенал, карандаши двадцати четырех цветов, вот!
Будь у меня старший брат или сестра, я бы, пожалуй, лучше себе представлял, что происходит в школе, но у меня никого не было, и про школу я сам себе навыдумывал черт-те что. Например, я нисколько не сомневался, будто в школе живет всякое зверье: волнистые попугайчики, морские свинки, белочки, золотые рыбки... Почему-то я твердо верил: каждый день начинается чем-то вроде общего спортивного праздника, когда ученики выполняют под красивую музыку всякие упражнения, а потом только разбегаются по своим классам — писать, считать и учиться всем другим наукам.
Я рвался в первый класс, чтобы быть учеником, получить ранец, быть среди других ребят, носить форму.
И день наступил.
Накануне меня заставили хорошенько вымыться, утром надели все чистое и новое.
Мама сказала:
— Перед школой полагается как следует покушать.
— Если не заправишься, ослабеешь, — подтвердил папа.
С ним я не спорил, во всяком случае тогда. Я даже не могу объяснить почему. Ну, отец — авторитет... Хотя я этого авторитета никогда не боялся. Честно. Может, потому не боялся, что он меня не пугал, за уши не таскал и вообще не имел дурацкой привычки показывать, какой он важный... Скорее всего, я за это его и уважал — человек как человек. Все понимает. Если говорит — по делу, не обманывает. Чего обещал, допустим, сделает, а не может сделать, так и обещать не станет... И мне говорил: "Не можешь — скажи: "Я постараюсь", — но не больше, а если уверен, что можешь, тут уж, извини, умри, а выполни. Слово — закон!.."
Только я пока подожду про отца писать, а то боюсь, как начну, не остановиться...
Мамина мама, то есть моя бабушка, обожает напоминать: "Смотри не безобразничай: Бог все видит и спасибо за твои фокусы не скажет". У бабушки в комнате красивая большая икона висит, вообще божественный дух имеется. А у нас в доме — ни икон, ни духа. Для меня вроде бога всегда был отец — все видит, все понимает.
...Но есть мне совершенно не хотелось — что тут сделаешь? Горло сухое, слюна не идет... только я привык верить отцу и боялся ослабеть, поэтому через силу, можно сказать, поднаперся овсянкой и чаем. Подзаправился так, что за живот было не ущипнуть, а в глотке булькало и переливалось сладкое.
Когда я был совсем готов, оказалось, что в школу идти еще рано. Как-то странно начинался день: и мы торопились, и часы шли не как надо, и у мамы голос вдруг делался хриплым...
В конце концов я сказал:
— Пошли уж, чего там мучиться!
И мама сказала:
— Правильно. Лучше прийти на десять минут раньше в школу, чем так страдать.
И мы выкатились из дому.
На улице стояла легкая прохлада. Когда мы с мамой вышли, мне показалось, что буквально со всех сторон прут ребята, все — с цветами. Мне тоже всучили гладиолусы — целый веник. Для чего? Но тащить пришлось. Держать цветы было трудно: ветер норовил растрепать букет.
Наконец мы пришли в школу. Тут нас всех построили во дворе. Разные взрослые нас поздравляли и долго говорили: не балуйтесь, учитесь хорошенько, слушайтесь старших, не деритесь... И для чего они все это рассказывали, когда каждый дурак понимает: в школе не полагается баловаться, а полагается слушаться!
Потом нас повели по классам.
Здесь, в первом "А", мне понравилось гораздо больше, чем во дворе. Я разглядел нашу учительницу. Она была красивая. От нее вкусно пахло. Наша учительница смеялась и не злилась на ребят, если мы во время урока вели себя не очень-то на "отлично".
Наша учительница замечательно все понимала: как мы могли сразу заделаться настоящими учениками, если никогда раньше не ходили в школу? Ну, кто-то вскакивал с места, вертелся — и что? Не террористом ведь был человек — просто еще не привык долго сидеть неподвижно. И она никого не ругала, а, наоборот, всех успокаивала.
Теперь, когда я уже повидал разных учителей, когда могу кое-кого сравнить кое с кем, скажу так: если человек не любит ребят и все время только и делает, что злится, лучше ему в школе не работать. А то и самому, и другим от такого человека никакой радости не будет. А у французского писателя Анатоля Франса я недавно прочитал, что учиться надо обязательно весело. Не знаю, читала наша учительница Анатоля Франса или сама догадалась, как надо учить, но в первом классе у нас всегда было легко и весело, как будто мы не работали, а играли.
И все шло очень хорошо.
Никто из ребят сильно не нарушал порядка, все старались. Когда Оля притащила с собой на урок котенка и тот вылез из сумки и побежал по классу, тоже ничего страшного не случилось.
— А этого ученика как зовут? — спросила учительница.
— Брешка,— сказала Оля, — он мой.
— Очень хорошо. Только лучше Брешку не приноси пока в школу: он еще мал, может заболеть в непривычной обстановке. Ясно, Оля?
Ребята в нашем классе очень редко ревели, мало дрались, и никто, мне кажется, не волновался из-за отметок. Кстати, это очень важный вопрос: кто и для чего придумал ставить отметки прямо с первого класса?
Допустим, у меня все идет нормально: четверки, пятерки, иногда попадается нечаянный трояк... Никто не делает большого шума и не портит никому жизнь. Но вот мне нарисовали в дневнике пару. Справедливо или нет — не главное. Двояк схвачен! Какое это может оказать на меня воздействие? Давайте разберемся.
Если человека за двойку дома лупят, хотя официально такое запрещено, а в Швеции даже считается уголовным преступлением, едва ли отметка улучшит мои успехи. Ради чего стараться? Скорее я начну хитрить: подделывать, "терять" или прятать дневник, возможно, стану расписываться за родителей и... копить в себе злобу. А если пары пойдут одна за другой, очень иного шансов — плюну, махну на самого себя рукой и стану медленно, но верно погибать от равнодушия к жизни.
Удивительно, как взрослые не понимают, что системой отметок они нам и себе только портят жизнь! Вот свежайший пример. В параллельном классе Кисяк (их классный руководитель Кирилл Сергеевич) влепил всем мальчишкам за поведение по единице. Сам ребят довел, и они стали тогда мычать с закрытыми ртами. Он к одному подходит, тот смолкает, он — к другому... ничего сделать не может. И влепил!
Думаете, воспитал?! Ни фига, извините за выражение, никого он не воспитал. Ребята только смеются и, очень возможно, станут теперь нарочно доводить и злить Кисяка, чтобы не вредничал.
Подумайте — всем по колу! Эт-т-то же выходит круговая порука! Нет, людей надо любить, а не злобить их дурацкими отметками и несправедливыми наказаниями. Только тогда люди и к вам станут относиться по-человечески. Попробуйте — спасибо мне скажете.
В первом классе было хорошо: Лилия Андреевна нас любила. Может, конечно, и не всех поровну, но доставалось от ее любви каждому. Один раз я сам слышал, как она чьей-то мамаше рассказывала:
— Вместо завтрака в половине восьмого я обед ем. С супом, со вторым и с компотом, чтобы уж потом, в школе, ни о каком буфете не думать. Мое время — их время, ребячье.
Потом она уехала за границу. Ее директором русской школы послали работать. Мы понимали — ей нужно: она жила без мужа, дочка выросла, в квартире стало тесно, в кооператив вступать дорого. Вот и поехала. Это мы понимали и все равно жалели. Дураки: жалели ее, хотя жалеть надо было себя. Правда, тогда мы еще не знали, что нас ждет.
 |
Во втором классе к нам, пришла новая учительница. Толстая — невозможно представить! Идет — колышется студнем. Платья на ней просто лопались и были в пятнах, как будто она жиром потела. Но этого мало. Она еще и злющая оказалась! Чуть что — орать! Да как — дурным голосом: "Я вам покажу! Я вас научу! Марш в угол!.."
Меня она почему-то не очень доставала, но все-таки.
Один раз стала Лилию Андреевну поливать: вроде Лилия Андреевна плохо нас учила, избаловала. Я тогда поднял руку и подрыгал пальчиками: в туалет можно?
— Приспичило? Десять минут всего прошло... В перемену не мог управиться? Ладно, ступай, только живо.
А мне ничего не надо было, но все равно я просидел в уборной до конца урока: не хотел слушать, как она Лилию Андреевну поливает. Торчал у окошка — оттуда тополь виден. Старый, скоро, наверное, свалится: весь ствол в дырках. Такие глубокие дупла... Из них воробьи вылетали.
А я глядел и думал: им хорошо — не надо никого ненавидеть. Чирикают, и все дела!
А Фаину Исааковну эту я и сегодня ненавижу. Ну для чего ей было на маленьких детей орать, топать, грозить, подзатыльники отвешивать?
И не потому я ее ненавижу, что очень расстраивался из-за наказаний, нет! Мы когда с ребятами возимся, бывает, больнее затрещины друг другу отпускаем — и ничего. Но подло орать на человека, когда точно знаешь: он на тебя крикнуть не смеет!
Или: ты ему по шее, а он — молчи! Кто это только придумал — орать? Умные люди? Образованные педагоги, да?
Правда, на птиц глядеть — удовольствие! Свободные — куда хотят, летят, когда пожелают, сядут. И никто над ними не начальник...
И тут я бы хотел высказать одну важную мысль. Человеку много чего надо — и взрослому, и тому, кто еще в школу ходит. Но больше всего нам, то есть ребятам, не хватает... свободы. Правда! Который только еще из коляски выполз, он на самом деле ничего еще не понимает, но почему мне, ученику, без конца указывают, велят, напоминают: ходи — не ходи, стой — сиди, молчи — говори, тише — громче... И так без конца! Это же запросто можно сойти с ума. А потом мы же еще и слышим: дети пошли какие-то нервные... Будешь нервным, если тебя, как куклу в кукольном театре, за ниточки дергают. Это же напряжение! Мне лично повезло, можно сказать, и на родителей, и на первую учительницу. А другим?
Ну пусть почти на всех — обязательно орут. Вы прислушайтесь — и сразу убедитесь: орут. А вот я совершенно не переношу, когда на человека подымают голос. Фактически из-за этого я и в милицию первый раз попал.
Выхожу на станции "Маяковская" из метро: вижу, военный патруль с бляхами в половину груди, при штыках стоит. Старшим — майор. Сухой-сухой. Глаза у него тусклые. Губы тоненькие — в ниточку. И весь из себя такой, что страх наводит. Смотрю, патруль задержал солдатика. Тот роется в карманах — наверное, документы ищет. А майор его про что-то спрашивает. Ну, я подкатываю поближе, встаю рядом — интересно. Подумал еще: "Мне ведь тоже в армии служить, так что интересно узнать, какие там дела бывают. Если по газетам судить, так жутковато. А тут случай самому послушать".
Но ничего толкового я не услышал. Майор меня заметил и с таким презрением в голосе говорит:
— Давай, пацан, отваливай! Нечего тут ушами хлопать. Ты что, не слышишь?
— Вы мне? — спрашиваю, вроде не понял, и рожу скорчил — полного придурка работаю. Люблю позлить, когда на меня как на инфузорию смотрят, тем более я майору ничего плохого не сделал.
— А кому же?
— Странно. Ушами обыкновенно ослы хлопают. Потому у них уши и отрастают...
— Очень, я смотрю, ты грамотный, — окрысился майор. — Отваливай, тебе сказано!
— Неужели это плохо — грамотным быть? Вот и нам в школе все время толкуют: учись, учись, а то дураком помрешь или прапорщиком станешь. — Ну насчет прапорщика я, конечно, чтобы позлить его, ввернул. — Что, неправильно нас, товарищ майор, учат?
 |
И тут замечаю: солдатик напрягся, глаза вправо, глаза влево... Ну, ясно — прицеливается дерануть от патруля. И сделалось мне страшно, и помочь солдатику охота. Ну, я и давай нахальничать напропалую. Майор цыкнул на меня: ах, так! И я не смолчал. Словом, пошло-поехало, а пока мы беседовали таким оживленным образом, солдатик не растерялся и дал деру.
Майор как увидел, что рядовой тю-тю, можно сказать, из рук у него ушел, как на меня разорется. А мне что?! Я тоже ему объяснил: не дело старшему офицеру паршивыми словами погоны свои позорить... Короче, солдатика он упустил, а меня, как лицо исключительно гражданское, спровадил в милицию.
Правда, милицейский капитан попался хороший. Для порядка мозги припудрил: вот, мол, ты способствовал смотаться нарушителю, а вдруг он дезертир? Замаскированный шпион?
— Вы серьезно про шпиона, товарищ капитан? Тогда и я, может, из ЦРУ? Не допускаете?
Тут капитан как засмеется на все тридцать два зуба.
— С тобой все, — говорит, — прозрачно ясно: ты трепло и нахал! Вот ты кто. А теперь не отсвечивай: ноги в руки — и чеши отсюда... Мне от этого капитана даже уходить не хотелось: понимающий человек! И веселый, и подход у него нормальный.
А вы замечаете, как мало на свете веселых людей? Про Хазанова и вообще про артистов, что смешат нас со сцены, не говорю, у них смех — профессия. А возьмем хотя бы нашего Дира, хотя бы завуча — много они смеются? Ходят по школе, озираются... Сами не улыбнутся и нам не дают. А чуть на уроке фыркнешь, сразу — цыть! И пошли-поехали накручивать: надо иметь сознание, надо укреплять, а не расшатывать дисциплину — основу основ... Господи, помилуй Акулину милую!..
Теперь я как-никак подрос, могу за себя постоять, а во втором или в третьем классе мы же крупой были. Как пискнешь? Фаньку я, конечно, на всю жизнь возненавидел, но кое за что и благодарен: она помогла мне характер выработать. Помогла развить сопротивляемость внешним силам.
Вот велит писать русский в тетрадках с зеленой обложкой. Пишу нарочно в розовой тетрадке. Она злится, двойку лепит, а я все равно зеленую тетрадку презираю.
Оставляет после уроков, приказывает:
— Переписывай!
— А почему, если обложка зеленая,— спрашиваю я,— от этого для русского
языка лучше?
Фанька на стенку лезет: не рассуждать! Дескать, не мое дело — умничать. Сказано — исполняй! И не разрешает вставать, пока не перепишу.
Кончилась эта дурацкая война тем, что она отца вызвала в школу, а пока он не придет, запретила показываться в классе.
Какой у них разговор был, я не знаю: под дверьми пасся, ждал, позовут, но никто меня не потребовал. Отец вышел задумчивый, а потом, когда мы уже к дому подходили, улыбнулся и говорит:
— Не повезло тебе, Кириллец, с учительницей.
Жаль... Ты лучше с ней не связывайся: не переделаешь. Мертвый номер.
— А я принципиально не буду в зеленой тетрадке писать! — объявил я,
совершенно убежденный, что стоять на своем — и честь, и заслуга. Но
отец меня, как ни странно, не поддержал.
— Как-как? Принципиально, говоришь? А стоит ли по пустякам стараться?
Принципиальность, сынок, тут ни при чем. Побереги эту штуку для серьезных
дел.
Видно, посещение школы и беседа с Фаиной
Исааковной крепко запомнились отцу, потому что месяца через полтора
или даже два он вдруг говорит:
— Был такой поэт, Кирюша, Михаил Светлов. Знаешь? "Гренада"!
Вот он говорил: принципиальность по мелочам — привилегия мещан. Это
к нашему старому разговору добавка.
3. Тут я должен про отца рассказать.
Он у меня — не как все люди. Во-первых, без нервов. Что бы ни случилось, отец спокоен — не дергается, не размахивает руками, не кричит зря. Самое большее, что можно от него услышать: "Минуточку, дайте сообразить".
Во-вторых, он не пьет. Ничего — ни водки, ни пива, ни вина. И пусть сто человек станут его уговаривать, угощать, упрашивать — "Я шофер. Мне нельзя". Ему, конечно, начинают доказывать: а как же другие? Не меньше твоего, мол, шоферы, однако позволяют. Но он железно: "У них и спрашивайте, почему позволяют".
В-третьих, как отец стал загранрейсы выполнять, взялся иностранные языки учить. Сперва польский, потом английский. Спросил его: для чего? Это ведь трудно пожилому человеку — отцу скоро сорок! — чужие слова задалбливать, произношение отрабатывать, не говоря о грамматике.
А он:
— Интересно, справлюсь или нет? Должен справиться, Кирюха. А потом,
я думаю: пока человек учится, все равно чему, он человек, а как бросит,
считай, включил заднюю передачу и-и-и-и... покатил к обезьянам!
В-четвертых, отец абсолютно все умеет делать собственными
руками: звонок починить, подметку приклеить, стекло заменить, сварить
суп, наладить радиоприемник — все это для него не проблема. В крайнем
случае, покрутит головой и скажет:
— Минуточку, дайте сообразить...
В-пятых,
он самый честный человек на свете. Вот подхожу я к нему — задача не
получается: так, вроде все понятно, а с ответом не сходится. Если решит,
растолкует. А нет — такое тоже бывает,— вздохнет и признается: "Не
тяну, сынок..."
Не как другие. Хоть Лехиного папашу взять. Если не волокет, сразу притворяется:
"Некогда..." Или вовсе норовит на Леху свалить: "Не стыдно,
студент, такой ерунды не знать? Что вы только на уроках делаете?"
И как пойдет зубы заговаривать! Леха не рад, что спросил.
Сколько себя помню, мы с отцом дружим. И он меня всему, что сам знает и может, учит. При том приговаривать любит: "Если у мужчины руки-крюки, это не мужчина. Пусть он хоть профессор или даже член-корреспондент Академии наук, а все равно — шмече! Что по-польски означает "мусор".
А теперь разговор про Олю: она тоже ближайшее окружение.
С детского садика мы рядом существуем.
После третьего класса Олю увезли на дачу. Точно не знаю, но, кажется, дача эта была где-то на Истре. Все лето я Олю не видел. Когда она вернулась и стала про лето рассказывать, самое странное, что я услышал, как там елки пилили. Лес стал засыхать и падать. Решили ели свести. Ну и пошли электрической пилой их крушить, а елки визжат и плюются осколками железа! Оказалось: лес был в войну ранен и потому своего срока не выжил, а начал сохнуть и умирать... Оля про это рассказала — и в слезы! Она жутко впечатлительная девчонка. Но слезы — не главное в Олином характере.
В четвертом классе нам учительница сказала:
— Завтра принимаем гостей! К нам приедут писатели.
Ну и давай объяснять, какие писатели приедут, что за книжки они сочинили, как их надо будет встретить. Ленке Коротеевой, как всегда, поручили гостей приветствовать, а Саше Саблину — благодарить. Это — в конце, понятно. Что Коротеева, что Саблин — главные мастера у нас в разговорном жанре и специалисты пускать пыль в глаза... А мы, толпа, должны были хлопать, улыбаться, подносить цветы на предстартовую линию, а еще раньше — хорошенько убрать класс. Да, чуть не забыл! Еще "люди из толпы" должны были надеть на гостей пионерские галстуки.
 |
В
назначенный день с небольшим опозданием прибыли наши гости. Их было
трое. Один — главный. Он загораживал собой остальных и больше всех разглагольствовал.
Двое других не обижались — охотно поддакивали главному и все время "лыбились".
Главный был еще не очень старый, но то-о-о-олстый — невозможно выразить.
И очки у него — настоящий велосипед! А когда он заговорил, голосок оказался
тоненьким, честно скажу, смешным, как у Петрушки. Говорил главный писатель
громко, то и дело начинал смеяться, хотя ничего уморительного в его
словах, по-моему, не было. Что сразу не понравилось мне и, думаю, другим
ребятам тоже — он жутко хвастал. Мол, наша детская литература — самая-самая
изо всех детских литератур на свете! А наши детские писатели еще при
жизни становятся классиками. "Да-да! И тут не может быть никакого
сомнения! Маршак, Чуковский, Михалков, Барто...— пищал наш гость.— А
возьмите Прилежаеву или Алексина, чем это не классики?.." Кого-то
он еще называл, но я не запомнил: смотрел на Олю.
Она сидела задумчивая-задумчивая и рисовала на клетчатом тетрадочном листочке толстого котяру, похожего на медвежонка, в здоровенных очках. Как увидел я этого карикатурного кота, так сразу вспомнил: недавно я читал про кота, который якобы лучше любой служебной собаки брал след и мог в переполненном зале кинотеатра за пять минут отыскать человека, если только этому коту давали понюхать какую-нибудь из вещей того типа...
Извиняюсь, но я что-то не верю, будто такие сказочки могут быть кому-нибудь из ребят интересными. Муть это. И надо прямо сказать: у нас есть всякие книжки! Попадаются на пятерку. Есть на четверку и на тройку, и даже на чистую двойку тоже имеются.
Я еще раз поглядел на Олиного очкастого кота и заметил, что на листке было написано: "Джек Лондон "Мексиканец", а рядом: "Куприн "Слон"... Интересно, о чем думала Оля? Может, она собиралась выступить?
Но тут главный писатель вдруг пискнул:
— Вот ты, девочка, с четвертой парты у окна, ты — с пропеллером на голове...
о чем изволишь мечтать?
Оля не сразу сообразила, что это к ней обращается наш
важный гость и поинтересовалась:
— Это вы про мой бант "пропеллер" говорите? Не смешно...
По-моему, она здорово разозлилась.
Но и писатель тоже запустился: ему Олино "не смешно"
против шерсти пришлось.
— Неужели тебе не интересно? Ты же совершенно не слушаешь! Мне кажется,
тебе мои слова — ветер? Или я ошибаюсь?
— Извините, пожалуйста,— говорит, вставая со своего места Оля.— Но я
не люблю, когда люди хвалятся. Просто не могу слушать: стыдно делается
за людей...
— Но кто же здесь хвастается? — спрашивает писатель, а выражение у него
такое... без парашюта с луны свалился и хорошо хряпнулся при этом, толком
даже вздохнуть не может.
— Вы,— говорит Оля.— Вы выхваляетесь: наша литература, наша литература,
живые классики...
— Странная, однако, ты девочка,— пренебрежительно сказал писатель, после
чего быстренько закончил свой треп.
Его сопровождающие сделали вид, что разговаривать с нами они и не собирались
— пришли, мол, классика послушать.
А потом, когда гости ушли, началось второе действие этого представления.
Первой вызверилась и накинулась на Олю Ленка Коротеева:
— Взрослому человеку... пи-са-телю!.. такое!., в лицо! На всех тень...
всему классу позор... а чего добилась?.. — Ленка много чего еще наговорила,
только я ее слов запоминать не стал.
Спросил:
— А если Оля на самом деле так думает?
— Ну и что! — загалдели девчонки, Ленкины подпевалы.— Мало ли, кто что
думает. Никто ей не поручал высказываться!
— Думает? Вот и думай себе в тряпочку! Твое личное дело...
Коротеева, почувствовав поддержку, надулась еще больше
и спрашивает, как прокурорша какая-нибудь:
— Признаешь свою ошибку? Класс, мне кажется, имеет право с этим делом
разобраться.
— А ты чего от имени всего народа поешь? — спросил я. — Ты кто такая?
— Молчи, Кирюха! — отрубила Ленка.— Посинел на глазах, как его Олечку
тронули...
Настроение в массах изменилось: только что было в пользу
Ленки, а тут поползло, поползло от нее. А Оля посмеивалась и читала:
Третий год, зимой и летом,
Появляется с букетом.
То придет на юбилей,—
То на съезд учителей...
А потом мы шли из школы домой, и тогда Оля мне вдруг сказала:
— Вообще, Кирюша, ты за меня лучше не заступайся. Сама я... Они же дураки...
По правде сказать, я не совсем понял, кого она имела в виду и с чего
вдруг не велела за нее заступаться.
4. Наверное, это ничего, что я рассказываю про жизнь не совсем по порядку — даже в настоящей автобиографии люди не описывают день за днем и год за годом. Лично я стараюсь писать "по мыслям" — вот вспоминаю что-то, на мой взгляд, важное и думаю: а с чем это важное было связано, как оно развивалось, какие в дальнейшем имело последствия?.. Ясно?
Когда я учился в четвертом классе и в школу ходить сделалось уже не так интересно, мать вдруг решила с отцом развестись. Сперва я ничего не знал, ни о чем не догадывался. Да и не удивительно: никаких скандалов в нашем доме никогда не бывало, мама ни в кого другого не влюблялась, все шло тихо-мирно, обыкновенно, и вдруг решила: разводимся!
Не помню, по какому поводу она начала со мной этот разговор,
но первую фразу ее запомнил.
— Ты уже большой, Кирилл, — сказала мама, — скрывать не буду: не получается
у нас с твоим отцом совместная жизнь. Водить друг друга за нос недостойно.
Короче говоря, мы решили разойтись.
Я отпал. Наверное, приблизительно так должен чувствовать себя человек, когда у него в квартире ни с того ни с чего обваливается вдруг потолок, падает стенка, взрывается газовая плита... Мать говорила еще какие-то слова, но я никак не добирал: что же все-таки случилось?
— Мы будем жить с тобой, как жили, Кирюша... Тут я сделал
над собой некоторое усилие, чтобы все же понять, что она толкует.
— Папа сказал... ты меня слушаешь, сын? Ему из дома ничего не надо.
Вообще не исключено, что он переберется на жительство в Киев...
— Вот ты сказала: будем жить, как жили, да? — спросил я и поглядел матери
в лицо. — Как жили, правильно?
Она не поняла меня и насторожилась — я сразу это заметил.
— Но папа ведь уедет...
— Господи, какой же ты бестолковый, Кирюша! Я про что говорила? — Она
обвела рукой комнату.
— Почему же я бестолковый? Я очень даже толковый! Может, я хочу жить
с отцом, а не с тобой? Разве у меня кто-нибудь спросил, что я думаю?
И тут началось!..
Все-таки одного я добился — личной встречи с отцом.
Это была довольно странная встреча.
 |
Сперва папа позвонил по телефону и назначил мне свидание — сразу после школы, у памятника Пушкину.
Он пришел минута в минуту, как всегда приходил. На нем
был новый синий костюм, красивая голубая рубашка с большими модняцкими
карманами. Мы поздоровались за руку, и папа первым делом спросил:
— Тебе, как я понимаю, пора обедать? Если ты не против, пошли в ресторан?
Что мне было отвечать? Я еще ни разу в жизни не был в настоящем ресторане. Знал, понятно, что там едят, пьют, танцуют... что там все жутко дорого. Наверное, это меня смущало больше всего, но я ничего толком отцу не сказал, промямлил что-то неопределенное.
Ресторанный зал оказался большим, с высокими сводчатыми потолками. Стены расписаны, как будто это какая-нибудь Третьяковская галерея. Кругом зеркала, в них все отражается, и от этого и столиков, и окон делается вроде еще больше... На полах ковры, красные и очень толстые. В здоровенных кадках, расставленных по всему залу, разная растительность. На столиках скатерти белые, как снег. Словом, все очень шикарно выглядело.
Не понравился мне только официант: молодой, упитанный,
говорил чудно, вроде подлизывался к отцу:
— Не позволите ли на первое порекомендовать вам селяночку? Очень впечатляюще
может по сезону прозвучать.
Пока они договаривались, я все смотрел на большой куст, или, правильнее
сказать, на маленькое деревце в кадке — в жизни таких здоровенных, блестящих,
будто лаком покрытых, листьев не видел. Потом отец сказал — фикус. Смешное
название, правда? Фикус!
— А пить что будем? — спросил официант, когда отец все заказал.
— "Буратино" будем пить — отличная вещь.
— Понятно: ребенку "Буратино", а вам прикажете...
— И мне.
— Однако... — Но тут отец на него так глянул, что официант вроде поменьше
ростом сделался и запел совсем противным, скользким каким-то голосом:
— Слушаюсссь.
Ели мы вкусно. Только очень долго.
Но главнее еды был для меня разговор. Все подробно, чтобы по словам, я, конечно, не запомнил, а смысл был такой — первым делом я спросил: почему все-таки они с матерью решили развестись? Он подумал немного, достал ключи из кармана и стал их не спеша вертеть на пальце. Примерно обороте на седьмом заговорил. Сразу пообещал, когда придет время, рассказать все подробно, а пока просил понять: есть в жизни такие важные вещи — дружба, долг человека по отношению к другим людям...
Здесь он подумал еще, вроде сомневался, говорить или нет,
но сказал: деньги — тоже серьезная и подлая материя...
— Так вот, в некоторых этих важных вещах у нас с мамой появились глубокие
расхождения. Он не стал объяснять, какие именно, и ни в чем маму не
осудил.
Расспрашивать его дальше я не стал: у меня возникло такое
ощущение, что большего отцу говорить не хочется. Но он помолчал и сказал
все-таки:
— И мама посчитала — лучше нам жить врозь.
— Интересно, — подумал я, — кому это лучше? Ей? Или ему?
Но спрашивать не стал, а поинтересовался, почему они решили,
что я должен оставаться с матерью? Отец как-то странно взглянул на меня
и быстро-быстро закрутил ключи на пальце.
— А разве ты против?
Тут я чуть не заревел. У меня вдруг задрожало мелкой дрожью все лицо,
а во рту сделалось кисло. Но я кое-как управился с собой и сказал:
— Ты бы мог сообразить, с кем я хочу жить, если уж не все вместе будем.
Отец долго молчал. Позвякивал ключами. Похоже было, подбирал
слова поскладнее, вроде прицеливался, чтобы не промахнуться. Наконец
стал мне втолковывать, что рад бы жить со мной, но есть много "но"...
Первое: он подолгу отсутствует, а оставлять меня одного рано, к тому
же ему бы не было покоя в дороге. Второе "но", пожалуй, еще
главнее: как станет мама обходиться без мужчины в доме? Кто ей по хозяйству
поможет, кто, в случае чего, придет на помощь и выручку? Тут я аж глаза
вытаращил:
— Вы же разводитесь! Почему же тебе не наплевать с Останкинской телебашни,
кто ей будет помогать по хозяйству?
— Потому, что твой отец порядочный человек, сынок, и привык заботиться
и думать не только о себе. Вот мы сидим здесь, попиваем "Буратино",
заправились как надо... Словом, схватили приличную порцию кайфа... Так,
кажется, твои приятели в школе говорят, когда имеют в виду удовольствие?
А где начало? Начало всего?! Кто жизнь тебе подарил, а с нею и все радости?
Мать. Мать одна, Кирилл, другой не бывает.
Он снова помолчал и снова поиграл ключами, потом попросил
меня остаться с матерью. Обещал, что будет держать со мной постоянную
связь, еще сказал:
— Раньше, как лет через пять, сынок, взять тебя не смогу. Совесть не
позволит. Если только...
— Что — если?
— Если мама решит, допустим, снова замуж выйти, а ты ее выбора не одобришь,
тогда другой вопрос.
Эти слова очень меня обрадовали, и я стал по-идиотски клясться, что никогда и ни за что никакого ее выбора не одобрю. Вероятно, я выступал достаточно глупо: отец засмеялся и посоветовал мне не суетиться, так как, насколько ему известно, пока у мамы никаких кандидатов на его место нет.
Потом, когда я шел домой, почему-то начал вспоминать,
что уже было, ну-у раньше, и чего больше не будет. И первым пришло в
голову, как отец учил меня забивать гвозди. Он притащил откуда-то березовое
полено, поставил его на попа, объяснил, как правильно надо держать молоток,
сказал, что глядеть надо исключительно на шляпку гвоздя, а не на молоток,
еще кое-что растолковал, а потом скомандовал:
— Хватай гвозди, хватай молоток — и марш на полигон!
— Ку-у-уда? — не понял я.
Оказалось, полено — и есть "полигон". На нем
я должен был упражняться. Сначала все шло хорошо, но когда гвозди стали
поменьше, попадать им по головке сделалось труднее, и раза два я заехал
себе по пальцам. А отец посмеивался и похваливал меня:
— Молодцом мужчина! Смелее давай... Не боись! А потом он достал коробочку
с совсем маленькими гвоздишками И сказал:
— Теперь будем хитрости учиться. Такую гвоздюльку даже твоими маленькими
пальцами держать неловко. Верно? А мы возьмем гребенку, воткнем малыша
между зубьев, вот та-а-к, приставим к деревяшке... Ну давай, лупи с
плеча!
Папа редко на меня сердился. Но когда я рассадил все-таки палец до крови
и заревел, он рассердился и обозвал меня киселем. Подумаешь, пальчик
оцарапал — и реветь.
Стыдно! Мне не было, по правде сказать, стыдно. Почему — я не знаю, но до сих пор жалею: все-таки должно было стать хоть как-то неловко за себя. Одно оправдание — возраст. Пять или пять с половиной лет.
5. В тот год, понятно, тоже было первое сентября. И скорее всего, малыши, как и в прошлые годы, толпами шли, подняв глаза на других мам, и выставлялись: наши-то цветочки побогаче ваших!
Только я ничего этого не видел. В школу пошел, потому что надо. А интереса и охоты не было. Если бы по своей воле жил, остался бы с удовольствием дома, валялся на диване и читал книжки. Но воля была не моя. Я постепенно втянулся в школьный омут, день потащился за днем: уроки, отметки, выволочки...
Вскоре на этом унылом фоне со мной стали твориться
странные вещи. Сперва я не понял — что, но на уроке истории Юрий Павлович
спросил у меня:
— Что тебе, Кирилл, известно о декабристах?
Вопрос был как вопрос — не трудный и не легкий. Я встал, бегло оглядел
класс: кто слушал, кто только делал вид, что слушает, толстая Клавка
тайком откусывала от баранки с маком, Димка Аверкин крутил кубик Рубика
под партой. "Скукота", — подумал я и, сам того не ожидая,
выдал вдруг текст:
— Декабристы — личности, принимавшие участие в бунте 1825 года и приговоренные
судом к ссылке в Сибирь на каторжные работы, а пятеро — к смерти. Целью
их была перемена образа правления, а предлогом послужило восшествие
на престол вместо великого князя Константина Павловича великого князя
Николая Павловича. Второе значение: декабристы во Франции — приверженцы
Людовика Наполеона, поддержавшие государственный переворот второго декабря
1851 года.
 |
Услышав такое, Юрий Павлович сперва просто-таки
офонарел. А потом спрашивает:
— Где ты нахватался, Каретников?
И до меня доходит, вроде из тумана проступает: этот текст я случайно видел в "Настольном энциклопедическом словаре" издания 1892 года. Москва, товарищество "Гарбель".
Видел. А почему запомнил, как и для чего? Застрелите
— не знаю! Но как бы там ни было, с этого началось: я стал видеть тексты.
Какие? Этого я объяснить не мог и угадать тоже не мог. Просто мне время
от времени стало отчетливо представляться то, что я раньше читал. А
читал я много. И получалась сплошная ерунда: я мог запросто "уложить"
учительницу природоведения такой приблизительно цитатой:
"Все звездное небо разделено на 88 участков, называемых созвездиями.
Каждое из них характерно яркими звездами и имеет свое название. В каждом
созвездии яркие звезды обозначаются буквами греческого алфавита, а наиболее
яркие — около ста тридцати — имеют кроме того, и собственные названия".
Но подобные "выступления" совершенно не помогали мне на уроке математики, где я с великим трудом соображал, как нарисовать двойку в виде неправильной дроби, если в знаменателе будет пять.
И тем не менее кто-то прозвал меня Вундеркиндом.
Бывают вундеркинды скрипачи, художники, артисты, и это, хоть удивительно, но понятно! А мой конек — память: где-то в черепушке остается вроде бы отпечаток, копия текста. Как это выходит, не знаю, но получается. Что делать с такой странной способностью, я не знал.
Придумал Леха Вольнов.
В первых трех классах Леха с нами не учился. Пришел в четвертый. Длинный, "дядя, достань воробышка!". Ходил враскачку, руки мотались. Его никто не задевал, он тоже ни к кому не лез. Я долго не мог сказать, что Леха за парень,— новенький и новенький. Сперва мы с ним почти не разговаривали. Появился контакт оттого, что нам оказалось домой ходить по дороге. Пока топаем, про то про се обмениваемся.
Как-то он говорит вдруг:
— А меня из старой школы коленом под зад
— с треском вышибли!
Мне интересно стало, за что вышибают да еще с треском. Все-таки образование
у вас обязательное, значит, хочешь или не хочешь, а закончить школу
должен. И я спросил:
— А за что?
— А не раззвонишь? А то мне папаша голову чик-чирик — и собакам! Клянись.
Вот, говори: "Не сойти мне с этого места... стать последним пресмыкающимся
гадом... если я разглашу доверенную..." — Тут Леха забуксовал —
видать, не хотелось ему произносить слово "тайну", и я подсказал:
— Доверенную мне информацию.
— Во-во! Информацию, правильно.
Я поклялся, он рассказал. В старой школе была училка — "гадюка из гадюк" (его точные слова), всех оскорбляла, а бывало и подзатыльники отвешивала. Короче, житья от нее никому не было. Один раз училка нажаловалась Лехиному отцу, вроде Леха ей грубит, мешает вести уроки, нехорошо подглядывает за девчонками.
Папаша у Лехи вспыльчивый, как порох,
долго не рассусоливает, сгреб Леху — и ремнем. Сначала отходил, а потом
спрашивает:
— Знаешь, балбес, за что?
Леха стал клясться, что гадюка учительница
все наврала. Он ей не хамил и за девчонками не подглядывал. Отец не
очень поверил, но все-таки сказал:
— Если ты сейчас не врешь, считай, выдано тебе под аванс, в счет будущих
художеств. С этим вопросом все. Можешь гулять.
Спорить было поздно. Поезд ту-ту — ушел, рельсы разобрали.
А обида осталась. Обида грызла. И Леха решил училке отомстить. Был у него маленький, чуть больше спичечной коробки, фотоаппаратик. Немецкий. Получил в подарок. Леха здорово насобачился этой игрушкой снимать. Клацнет из-за угла — никто не заметит даже. Но этого мало. Лехе вообще нравилось заниматься фотографией: он не только щелкал — сам проявлял, увеличивал, сам печатал снимки, делал фотомонтажи.
Тут Леха замолчал и предложил:
— Айда ко мне! Покажу чего — закачаешься!
Ну, я вспомнил сразу: лучше, как говорят на Востоке, один раз увидеть, чем сто раз услышать, и не стал ломаться. Мы пошли к Лехе. Он жил в новом, нарядном доме. Чтобы попасть в подъезд, надо было знать секретный код и нажать на ящичке с кнопками определенные цифры, иначе дверь не открывалась. Квартира была большая, вещей полно. Я даже подумал: и для чего людям столько всего сразу? Но спросить у Лехи ничего не успел: он завел меня в свою комнату, дверь — на ключ, подставил табуретку к шкафу, залез и с самой верхотуры достал черный пакет. А там фотографии — наверное, вырезанные из заграничных журналов картинки. На всех, на всех — голые женщины и голые женщины с голыми мужчинами.
— Ну, как? — спросил Леха, дав мне поглядеть
картинок пять.
— Голые! — сказал я. — Есть красивые...
— Лопух! — объявил Леха.— Это же порнография высшего класса! Секешь?
Вижу, не секешь! Слушай... Он говорил долго и с удовольствием. Признаюсь,
я узнал много нового. Столько, что едва не позабыл спросить: а при чем
тут учительница, из-за которой его выгнали из старой школы?
 |
Но Леха ничего не забыл и рассказал, как было дело.
После отцовской выволочки он сфотографировал училку с разинутым ртом, когда она выдавала кому-то очередной разнос. Снял, понятно, скрытно. Потом выбрал в своей коллекции подходящую тетку с дядькой, отчекрыжил училкину голову от фотографии, аккуратно подогнал и наклеил на место теткиной головы на картинке. Переснял. И все получилось как по правде: и училка, и дядька.
Это свое "произведение" фотографического искусства Леха размножил и пустил по ребятам. Надо ли говорить, какое оно произвело впечатление...
А попался он совершенно случайно, когда запихивал фотографию в классный журнал и не заметил завуча. Тот подошел, увидел, и... произошел "атомный взрыв".
Вот такая оказалась у Лехи тайна. Удивил он меня? Да не очень. Раньше, давно, я гораздо больше удивился от совсем не такой тайны. Рассказать?
Мы еще в школу не ходили. Кто-то научил Олю, а она меня, а потом и другие ребята стали собирать цветные стеклышки. На прогулках все мы под ноги глядели: как блеснет осколочек — коршуном! Вы никогда не искали цветных стеклышек? Знаете, как трудно! Зеленые, оранжево-коричневые еще попадаются, синие — тоже, а вот красные или голубые — большая, скажу, редкость.
Мы тогда просто свихнулись на этих стеклышках. Кто куда свои находки прятал, не могу сказать, а мы с Олей устроили тайник. Это она придумала. Выкопали ямку за старым сараем. Наш детский сад в древнем доме помещался, у входа здоровенная яблоня росла. Попробуй, найди в Москве еще где-нибудь такую яблоню! Ямку выстелили травой, поверх лоскуток старого плюша положили. А закрывали тайник фанеркой, сверху — для маскировки — надвигали корявые, закопченные кирпичи. Когда ребята спрашивали Олю, для чего собирать цветные стеклышки, она делала круглые глаза и таинственно шептала: "Кто наберет самые-самые-самые лучшие стеклышки, тот увидит чудо!"
Верила она в свое чудо или нет, точно не знаю. Мне верить очень хотелось. Вообще, когда есть тайна, жить делается интереснее. Это, конечно, мое мнение.
Сколько продолжалось наше помешательство,
не помню, но как-то под вечер, когда за нами должны были вот-вот прийти
родители, подскакивает ко мне Оля и шепчет:
— Бежим! Там кто-то был: кирпичи повернуты...
В первый момент я даже не понял, о чем она. Прибежали мы к тайнику, живо отбросили маскировку, дошли до фанерки, а ее-то нет. И стеклышек нет! И черного плюша как не бывало! А вместо всего на подстилке из травы — коробка. Представляете? Аккуратная картонная коробка, перевязанная ленточкой.
Мы даже лбами стукнулись, когда рванулись коробку вынимать. У меня руки дрожали, пока я узел на ленточке развязал, пока крышку открывал.
А когда открыл — хоть в обморок падай!
В коробке лежала сверкающая разноцветная игрушка! Странно, какая именно это была игрушка, у меня из головы выветрилось. Сияющая, вроде вся в огоньках... Скорее всего, елочное украшение.
Чудо? Еще какое! И вот ведь смех: я и теперь не знаю, кто нам такой подарок подстроил. Иногда мне очень хочется верить, что стекляшки, которые мы так старательно складывали в наш тайник, сами собой переродились в ту ослепительную игрушку... Чепуха? Но с другой стороны — сходят же люди с ума от экстрасенсов всяких, а тут я и вовсе слышал, что колдуны хотят свой профсоюз организовать.
Хорошо бы только, все тайны и чудеса были такими безобидными, как Олин тайник.
С того времени, как я побывал у Лехи дома, прошла, пожалуй, неделя. В гости к нам (чудно даже говорить — в гости!) пришел отец. Не спеша снял кожаную куртку, повесил на свое место — крайний крючок на вешалке, он всегда туда вешает. Принес польские сувениры — он последнее время ездил в Варшаву — и любимый мамин торт, весь обмазанный шоколадом, без крема, сухой внутри, вроде из вафель склеенный. Ну и цветочки.
Сначала мы попили чаю, мама поддерживала дипломатическую беседу на отвлеченные темы (как погода в Варшаве и тэдэ), а потом, когда эта дурацкая официальная часть завершилась, мы пошли с отцом прогуляться.
Было уже не светло, но еще и не вполне
темно. Тускло. Теней мало, все в сиреневатом таком цвете воспринималось.
Не скажу, что красиво, нет. Какой-то грязноватый налет лежал на улицах,
на всем городе. Но все равно здорово — с отцом когда.
Люблю шагать с ним по городу. Папа не спешит. Идем и разговариваем.
Никто нам не мешает. Иногда, если погода, конечно, хорошая, можно над
рекой посидеть. Красота!
И в этот день мы шли, разговаривали про разное. Он меня про школу расспрашивал: с кем теперь дружу, как Оля в новом году учится, нравятся ли нам преподаватели...
И тут мне стукнуло — спрошу! И я спросил:
— А ты мог бы мне рассказать, как детей делают?
Странно, когда отец услыхал этот вопрос, у него сделалось неприятное,
расстроенное лицо. И он замямлил такое... В жизни от него не ожидал:
"Э-э-э... бэ-э... собственно говоря... можно предположить..."
Мне сделалось и противно, и почему-то
жалко отца.
— Ладно, — заявил я с чувством собственного превосходства, — можешь
не рассказывать: сам знаю.
— Знаешь? А для чего тогда спрашиваешь?
— Хотел, от тебя услышать, чтобы не сомневаться... — Здесь я чуть не
брякнул про Леху, мой главный источник полезных сведений, но вовремя
удержался.
— И что же ты сам знаешь? — вяло спросил отец.
— Могу поделиться,— предложил я и стал пересказывать сюжеты Лехиных
картинок плюс его развернутый, комментарий. Что-то на меня при этом
нашло — может, вдохновение. Говорил я, как бы не замечая слов, обычно
нормальными людьми вслух не произносимыми. Меня несло. Тормоза не держали.
Отец терпеливо молчал, пока я не иссяк.
Только тогда он спросил:
— Все?
Я кивнул головой и сжался: что теперь будет? Признаться, я уже жалел
— не надо было затевать этого разговора и тем более ни к чему мне было
солировать...
— Сущность предмета в общих чертах ты усвоил. А вот словесный твой понос — просто стыд и срам, сынок. Постарайся понять: только нищие духом, отпетые олухи могут купаться в грязи этих гнусных слов. Я думаю, похабщину изобрели человеконенавистники, серые, убогие люди. Они сгорали от зависти: не получалось у них любви-праздника, вот они и вызверялись, ожесточались... Тебе, сынок, еще не все пока доступно. Поверь мне поэтому на слово: не щеголяй словами ничтожных людишек, не путай правду с цинизмом.
Он помолчал немного и стал извиняться,
что оказался совершенно неподготовленным для затеянной мной беседы.
А мне... мне было непередаваемо стыдно.
— Извини, Кирюха. Больно ты быстро вырос. Никак я не предполагал, что
уже время...
6. Маму я, конечно, люблю. Тут сомневаться
нечего и спрашивать не надо: за что да почему? Мама — и все! А вот откровенно
сказать: меньше, чем к отцу привязан. И в этом она сама виновата. Сколько
помню, от нее одни "нельзя" слышу:
— Нельзя есть снег — горло заболит!
— Нельзя с куском по улице бегать — неприлично.
— Нельзя, когда сидишь на диване, поджимать под себя ноги — не дикарь.
— Нельзя шлепать по лужам — простудишься!
— Нельзя перебивать старших — неуважительно...
— И так далее и тому подобное.
Понимаю, мать хочет, как лучше для меня. Родительский инстинкт действует! Святое чувство материнства в ней говорит. Но надо все-таки и границы ощущать: невозможно на одном "нельзя" человека держать. "Льзя" тоже должно быть!
Говорю
матери:
— Есть же закон борьбы за существование! Это не я выдумал, а сама природа
установила. Естественный отбор тоже существует. Ты же не можешь отменить
эти положения? Почему десантников я космонавтов специально на выживание
тренируют? Между прочим, сам великий Руал Амундсен — слыхала? — уже
мальчишкой на снегу спал, а позже котлетами из собачатины питался —
и ничего, два полюса освоил! А ты говоришь: "Нельзя то, не смей
это!.."
Но мою маму не собьешь.
— Не болтай глупостей! — И конец разговору. А бывает, и не конец, бывает,
отрабатывает запасной вариант: — Станешь десантником, космонавтом или
Амундсеном — тренируйся и выживай как угодно! Спи тогда на снегу, бегай
по Северному или Южному полюсу босиком. Клянусь: я возражать не стану.
А пока ты еще мой сын. Понимаешь? И при этом, один. Так что я за тебя
отвечаю.
У меня много недостатков. Есть и такой глупый:
терпеть не могу, чтобы последнее слово в споре оставалось не за мной.
Злюсь.
— А почему, кстати сказать, я у тебя один? Нарожала бы еще штук пять
— про запас и для спокойствия...
Такого разговора мать не поддерживает. Сразу губы в ниточку, слепому
видно — обиделась. А подумать — чего такого особенного я сказал? Мама
молодая, и жизнь есть жизнь...
А еще мою маму хлебом не корми — дай потолковать
о пользе образования, необходимости владения иностранными языками и
вузовском дипломе. В ее представлении диплом — голубая мечта и, понятно,
непременная принадлежность каждого порядочного человека. При этом сама
она если что-нибудь и закончила — маминого аттестата зрелости я никогда
в глаза не видел,— то не больше, чем вечернюю среднюю школу; иностранными
языками она тоже не владеет и ни к какому вузу никогда не приближалась.
А намекни ей — так сразу на лице мировая скорбь, сразу вздыхать, охать:
— О чем говорить? Какие у меня были обстоятельства в детстве, какие
условия...
Кстати сказать, какие тяжкие обстоятельства жизни были в маминой молодости, я совершенно себе не представляю. Теперь многие стали своими родословными интересоваться, а я что могу сказать? Есть у меня живая бабушка — матери мать. Старушка с легкой чудинкой. Очень она любит поговорить про Бога, про райскую жизнь и мучения грешников в аду. Но мне кажется, она на самом деле ни в какого господа не верит, а почитает только денежку! Ох, любит бабушка новенький рублик погладить! У нее при этом и лицо масляным делается...
Можно предположить, что, кроме бабушки, был у меня еще и дедушка. Но я его на этом свете не застал. Ни мама, ни бабушка никогда и ничего про дедушку мне не объясняли (правда, и я не особенно им интересовался). Фотографии дедушки, думаю, у матери имеются, но на стене не висят, в рамки не вставлены.
А что было раньше — перед бабушкой и дедушкой,— вопрос, извиняюсь, без ответа. Тьма.
Отец же вырос в детском доме. Его родители погибли в авиакатастрофе. Он пытался найти "концы", но совершенно безуспешно. Разыскал только совсем-совсем дряхленькую бабулечку, которая когда-то работала в детском приемнике и вроде бы какое-то время приглядывала за отцом. Папа ей к каждому празднику посылает красивые открытки.
А мама удивляется:
— Ну чего ты стараешься — она же тебя и помнить не может. Подумай: сколько
вас через ее руки прошло, во-первых, и. во-вторых, прикинь, какого она
возраста сейчас! Лет под сто!
— Помнит или не помнит — существенного значения не имеет: каждому живому
человеку радостно получить привет от другого человека. Это, во-первых,
если уж загибать пальцы. И, во-вторых, мне доставляет удовольствие писать
старушке. И тут ничего ненормального нет — вполне естественное дело,
если подумать минуточку, идти с добром к людям. И вовсе не обязательно
ожидать за это благодарность или получать медаль "За заслуги"...
Особенно охотно отец говорит о доброте, был бы подходящий случай, об отношении к детям: вовсе не обязательно целовать ребятишек, гладить их по головешкам, подкармливать шоколадками и одевать, словно кукол. Нет! Главное — проявлять терпение! Слушать внимательно, не злиться, даже когда очень хочется разозлиться, отвечать на все вопросы, которые тебе задают ребята, а не можешь ответить, так не ври, признайся: не знаю. А еще папа любит порассуждать, что важнее: слова или дела? И, как дважды два, доказывает: доброе слово — ценность, конечно, большая, но даже маленькое полезное дело в сто раз важнее и дороже...
Но завести котенка папа мне никогда не позволял.
Почему? Мне кажется, он и сам толком не мог объяснить свою неприязнь
к кошкам.
— Терпеть не могу кошек,— говорил отец,— все подхалимки!
Тогда я принимался канючить щеночка, маленького, беленького, с черным
мокрым носиком.
— Жалко, Кирюша,— говорил миролюбиво отец,— из щенка вырастает собака,
а собаке простор нужен — лес, поле, земля, а не асфальт под ногами...
 |
Единственное, на что он согласился, — купил мне золотых рыбок. Они красиво плавали в большом стеклянном пузыре и потешно разевали рты, как будто зевали.
Но с золотыми рыбками мне кошмарно не повезло. И тут я, кажется, кругом виноват — перестарался с кормежкой. В два дня все мои красавицы подохли. Отец, когда из рейса вернулся, ничего не сказал, хотя наверняка заметил: аквариум пустой, одна травка в нем зеленеет.
И больше в нашем доме никакой живности не было.
Когда я еще вырасту, когда смогу решать все сам, я собаку все равно заведу. И это будет немецкая овчарка. Обязательно овчарка, а не какой-нибудь декоративный песик величиной с варежку.
А у Оли знаете какой котище вырос?! Килограммов на двадцать! Серьезно. Здоровенный, тяжеленный и с характером — я тебе дам каким! Не к каждому приблизится, не всякому позволит себя погладить.
Олина мама говорит:
— У него очень развито чутье на хороших людей. Вот ты понаблюдай за
ним — и убедишься.
Лично я наблюдаю, что ко мне Брешка подходит без отвращения и не возражает,
когда я чешу ему за ухом. Даже наоборот: я чешу, а он начинает так звучать,
будто в нем что-то булькает или закипает. При этом Брешка жмурится и
— вот даю честное слово! — улыбается совсем по-человечески.
Нет, я не чувствую себя несчастным или сильно
обделенным от того, что у меня нет персонального домашнего животного.
Приходится терпеть. В конце концов, и у взрослых могут быть свои завихрения:
все-таки люди.
Но я начал рассказывать про маму и нечаянно отвлекся. Извините.
Мама служит... Кстати, она совершенно не переносит этого слова — "служить" и всегда говорит о себе: "Я работаю". Но если соблюдать точность, мама, конечно, служит в отделе архивных фондов военного музея. Я бывал у нее на службе и вполне представляю, как она записывает на карточки наименования поступающих документов — единиц хранения, по-архивному, — как посылает, если надо, эти единицы на реставрацию, а с наиболее ценных снимает фотокопии.
Мне понравилось на маминой службе: порядок, чистота, тишина, все друг с другом обращаются исключительно вежливо. Например, маму только две или три женщины — они намного старше — называют Аней, а все остальные — "Анна Сергеевна" и только на "Вы". Словом, порядок у них там будь здоров — воинский! И мне совершенно непонятно, для чего мама в разговоре с незнакомыми людьми, когда речь касается ее работы, обязательно напускает тумана.
— Мы ведем исследования старинных, государственно важных документов... Фактология немыслима без скрупулезного подхода и объективного осмысления каждого исторического свидетельства... Документирование для науки и в науке не терпит умозрительности... — Вот в таком приблизительно духе обожает она высказываться. Плетет — и самой, небось, кажется, что люди думают, будто перед ними по меньшей мере доктор исторических наук или, на худой конец, старший научный сотрудник.
Но больше всего я не терплю, когда мама вроде
бы даже с вызовом объясняет:
— Мой муж — рабочий! (Она всегда представляет отца так. Никогда не скажет
— шофер. По ее понятиям, водитель автомобиля, шоферюга,— последняя,
пожалуй, степень падения.) Мой муж — рабочий,— мать говорит, вроде бы
извиняясь за отца, за его неполученное высшее образование и умоляет
всем своим видом не высказывать ей сочувствия.
Маме жутко важно, что подумают, что скажут или всего только что могут сказать люди о ней, об отце, о нашей семье. Иногда мне даже кажется, маме не так важен смысл и суть дела, лишь бы сохранилась приличная декорация. Сто раз на дню она может повторить: "Так неприлично... Это неудобно... Это некрасиво... Не позорь меня... Не срами себя..."
А один раз за "неприличный" вопрос
я даже от нее по морде схлопотал. Сидели на кухне и пили чай. Слушали
Вахтанга Кикабидзе. Все было мирно, спокойно. Сам не знаю почему — был,
очевидно, какой-то повод,— я спросил:
— Правда, я недоношенным родился?
— Что ты глупости болтаешь? — авансом рассердилась мама.
— Вы с отцом в октябре поженились?
— Ну и что?
— А я родился в июне... Так? Считай: ноябрь, декабрь, январь, февраль...
Я не успел досчитать даже до апреля — мать влепила мне такую затрещину,
что я едва не слетел с табуретки и одно ухо перестало слышать Кикабидзе.
И за что? Жизнь есть жизнь, от нее нельзя спрятаться. Почему только взрослые упорно не хотят этого понимать? Самое простое — и мне и ежику понятное — стараются возвести в проблему!
7. Когда выяснилось, что память у меня не как у всех, Леха очень забеспокоился. Заметьте, не я — он! Такой уж человек: набит идеями или, как он сам любит говорить, "вариантами"...
— Что будем делать, Кирюха? Не пропадать
же такому товару...
Насчет товара он любимое словечко своего папаши воткнул. Пал Васильевич
готов все за товар считать: "Книжка такая-то — не товар, студенты.
(Он нас всегда студентами величает.) Но прочитать надо". Увидит
симпатичную женщину: "Боже, какой товар, а купца нет!" Даже
про обыкновенную плюшку с изюмом тем же тоном: "У-у-у, товар —
люкс!"
 |
Я
удивился: пусть есть у меня память, и даже сильная или вовсе не обыкновенная,
но что же можно из нее сделать? И Леха предложил свой "вариант":
— Желаешь ребятам приносить пользу — подумай, какой урок легче вытерпеть
— в сорок пять или в тридцать минут?
— Ну-у?
— Вот тебе и "ну"! Посматривай в умные книжки, запоминай всякую
научность, лепи из нее вопросы! Учителя ужас как обожают себя показывать
и будут отвечать, заливаться словами, а хоть Аверкина или меня, дурака,
спросить не успеют. Один за всех! Кому, спрашивается, ура? Каретникову!
Только с умом надо, чтобы на полном серьезе, с интересом на морде вопросы
задавать...
Для начала на природоведении я спросил, как астроном Галле в 1846 году вдруг надыбал большую планету вашей Солнечной системы и почему ее раньше никто не заметил, такую здоровенную?
За "надыбал" мне от Марии Михайловны был втык, но все равно она стала рассказывать, что сначала, кажется, Леверье вычислил на основании возмущений Урана, что примерно в таком-то районе неба должна находиться громадная планета, вот с этой подачи Галле и удалось найти Нептун.
Мария Михайловна рассказывала с удовольствием, постепенно увлекалась, и мы узнали, что среднее расстояние между Землей и Солнцем в тридцать раз меньше, чем от Нептуна до Солнца, что Нептун обращается вокруг нашего общего светила за шестьдесят тысяч сто восемьдесят одни сутки. Это будь здоров сколько! Сто шестьдесят четыре с лишним года! Мария Михайловна назвала диаметр, объем и массу планеты, рассказала про спутник Нептуна — его открыл Лассаль...
Кто сколько запомнил — другой вопрос,
но спросить никого в этот день Мария Михайловна не успела. Леха радовался
и все меня нахваливал:
— Не голова — совет министров!
Ну, а на следующем уроке я извинился и попросил объяснить, что за штука плавиковая кислота и правда ли, что она запросто растворяет все металлы, кроме золота, платины и свинца?
И Мария Михайловна снова клюнула.
Теперь мы получили возможность узнать, что фтористоводородная кислота — водный раствор фтористого водорода — получается разложением фтористых металлов серной кислотой. Употребляется для вытравливания узоров на стекле, требует в обращении повышенной осторожности и тэдэ и тэпэ.
Вообще-то мне на эту плавиковую кислоту было чихать, но время славненько оттикало, и Мария Михайловна снова никого не спросила. Польза? Польза! Леха оказался прав.
Однако очень скоро учителя разгадали
мой маневр, объявили, что я занимаюсь типичным обструкционизмом, и тянуть
резину на уроке сделалось куда труднее. Только подниму руку, а мне:
после, после, на перемене, Каретников, спросишь!
Но все-таки если постараться, "завести" нашего историка, например,
вполне было возможно.
Главное правильно начать:
— Пожалуйста, извините, Юрий Павлович, у нас вчера вышел спор: есть ли разница между мушкетом и мушкетоном? Или все дело в неидентичном написании наименования одного и того же предмета? Это же старинное ружье, как нам кажется. Извините, Юрий Павлович, но без вашего авторитетного...
Поясняю: Юрий Павлович — ценитель тонкого обращения. Ему лепи гуще: "Извините, будьте любезны, с вашего разрешения, если сочтете возможным..." — и он дрогнет! И вторая его слабость — старинное оружие. Он великий знаток по этой части! А во всем остальном Юрий Павлович вполне нормальный человек и может с мальчишками даже мячик по двору погонять.
— Стыдно и, пожалуй, даже позорно, Кирилл, не знать, что мушкет — тяжелое огнестрельное оружие пехотинцев! При стрельбе оно опиралось на специальные сошки, несколько напоминавшие фотографический штатив. Мушкет изобретен в шестнадцатом веке и прожил двести лет! А мушкетон, Каретников, — оружие кавалерийское. Мушкетон обладал расширенным дулом, что позволяло заряжать его несколькими пулями, расходившимися при стрельбе веером... — Тут Юрий Павлович движением фокусника выдергивал из какого-то потайного кармана старинные, темного серебра часы, щелкал пальцами и говорил: — Вы, вы... опасные хитрецы... Не употребляю более сильного выражения по причине присутствия в классе прекрасных дам. Но коль скоро Каретникову удалось выбить меня из седла, так и быть, сообщу: "мушкетер" — вы обожаете это звание, хотя оно означает всего-навсего "солдат", — слово "мушкетер" обязано своим происхождением тому самому оружию шестнадцатого века, о котором мы беседуем...
Остановиться Юрий Павлович не в силах. До самого звонка мы пребудем теперь под мушкетерской охраной...
Так оно и шло.
А в башке накапливались непонятные, никак между собой не желавшие связываться сведения: планета Нептун, мушкетеры и какой-нибудь еле выговариваемый зензубель рядом с плавиковой кислотой или попугаями-неразлучниками — и все это перемешивалось и начинало давить на сознание.
Постепенно я превращался из человека в какой-то компьютер: помнил много, а соображал мало.
Больше всего мне недоставало толкового программиста, наладчика... Теперь я думаю: может, половина всех бед на свете оттого и происходит, что человека — именно когда он во как нуждается в правильной наладке — некому бывает отрегулировать по всем правилам современной науки.
Вот давайте честно поглядим на школу, только не сверху вниз, как те смотрят, кто всякие новости и разные реформы для нас придумывает, а поглядим снизу вверх, глазами подопытных кроликов. А что? Конечно, мы кролики. С первого шага в школе нас дрессируют — то так, то эдак. Сиди прямо, отвечай четко, думай, как я думаю! А еще лучше — вообще не думай, запоминай! Бери учебник и отмечай: задолбить со страницы 113 до страницы 118 включительно. Это урок на сегодня, а завтра пойдем дальше...
Откуда берутся лентяи, знаете?
Взрослые обожают нас упрекать: неблагодарные, оболтусы, такие-сякие и прочие. Хорошо, допустим, мы такие на самом деле, но по-че-му? Есть пословица: яблоко от яблоньки недалеко падает, но в данном случае без намеков спрашиваю: почему мы все-таки такие некачественные? Главный ответ: в школе жизнь течет неинтересно. Это раз! Нигде — ни в классе, ни дома — нам не хватает справедливости. Это два!
Приведу очень подходящий пример.
Мы работали в лагере труда и отдыха. Поехали туда, кстати, с большой охотой, с этим... с энтузиазмом. Жили в заброшенной конюшне пригородного совхоза, спали на нарах, мыться бегали на речку, по остальным делам — в кустики (девочки — налево, мальчики — направо). Никто не роптал, не жаловался. Работали.
Кто никогда не пробовал прикладывать руки к земле, тот может сдуру заявить: "Тоже мне работа — морковку за хвост из земли выдергивать!" Но чтобы серьезно судить, надо эту работу поделать, испытать лично! Совхозная грядка — не дачный или приусадебный клочочек — двести метров! А земля как спеклась (дождей давно не было). Чтобы морковину взять, надобно ее ловко раскачать, надобно саму ее тянуть, а то хвост в руках останется, а морковина в земле... И всю дорогу передвигаешься согнувшись. Час подергаешь — ноги дрожать начинают, поясницу ломит и хочется сбежать к чертям с этого поля. И ты готов под присягой отказаться на все будущие времена от любой моркови: в рот не возьму! Пропади она пропадом, в конце концов, мы же не кролики на самом деле.
Однако в совхозе все работали честно. Может быть, отлынивала только Сонька Крохинова, ну и Коротеева, "докладчица" наша записная, не надрывалась. А остальные — будь здоров, как старались! Между прочим, Юрий Павлович — мужик справедливый, он был за старшего с нами — сколько раз говорил, что нами доволен.
Прошло время. Настала пора подводить итоги.
Могу сообщить точно: лично я получил на руки два рубля и семнадцать копеек. А было обещано, что работать мы будем по нормальным расценкам.
Кто, скажите, если он не псих, станет
после такого надувательства рвать жилы на трудовом фронте?
Хотите — верьте, не желаете — дело ваше, но я прямо и честно говорю:
без интереса ничего в школе лучше не станет. И справедливость нужна.
А иначе каждый будет искать свой интерес где-нибудь — не в школе. Поглядите:
одни балдеют в подъездах, другие пристраиваются махинации крутить, кого-то
уже в суд волокут. И чаще всего ребята не по своей вине залетают.
Читайте дальше, кое-что я еще расскажу, как все начинается.
 |
8. У Лехи водился дружок — Саша Лапочка. Почему его так чудно ребята прозвали, не знаю. Где Леха его выкопал — тоже не знаю. Был он постарше Лехи года, может, на два или даже на три. Нахальный, мастер заливать и втираться... Мне Саша Лапочка с самого начала не приглянулся, но не станешь же орать об этом на каждом перекрестке или говорить человеку в лицо: ты мне не нравишься! Кому интересно такое слушать?
Короче, я этого Сашку знал, видел несколько раз, но ни в какие отношения с ним вступать не собирался.
Теперь уже трудно сообразить, как получилось, что Леха притащился ко мне с Сашкой Лапочкой. Скорее всего, завернули позвать прошвырнуться вместе... Зашли. Сашка тут же по всей квартире все равно как ищейка промчался, обнюхал каждый угол, даже в холодильник заглянул, для чего-то еще и шмотки на вешалке пощупал. И засек там старые отцовские джинсы. Папа с нами уже не жил, а джинсы остались.
— Чьи шкаренки? — немного шепелявя, спросил Сашка и показал желтые свои зубищи — вроде улыбнулся.
— А так,— сказал я,— заблудились. Старье...
— Старье?! Самый кайф, "Адидас"! Толкнешь?
Как дальше все получилось, не хочется вспоминать. В двух словах — старые отцовские джинсы из нашего дома ушли. Увел их Саша Лапочка. Отдал я — на, мол, только отвяжись, смола! И вроде бы ничего не случилось.
Но вскоре телефонный звонок:
— Анна Сергеевна Каретникова здесь
живет? Здравствуйте, Анна Сергеевна. С вами говорит инспектор милиции,
капитан...
И завертелось.
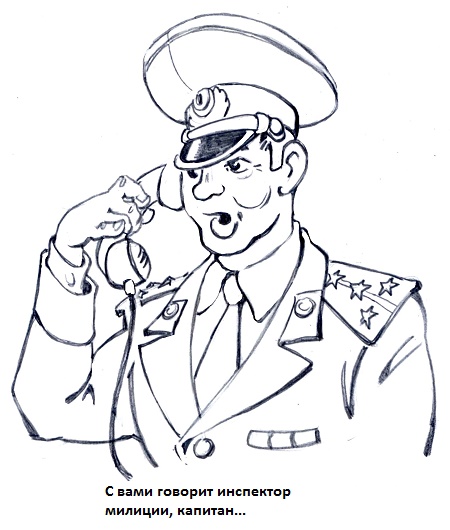 |
Конечно, дело было не в заношенных отцовских джинсах. Сашка оказался замешанным в каких-то темных махинациях. И когда его прижали, сообразил кивнуть на меня, тем более отец постоянно за границу ездил — получалось похоже...
Пожалуй, тут я, Маркуша, принявший рукопись Вундеркинда от его товарищей, скажу несколько слов. Все, что написал Кирилл Каретников, мне представляется весьма значительным. И знаете, почему? От страниц, исписанных хорошим ученическим почерком, веет ветром живой, неподдельной искренности. И мне, человеку немолодому, особенно радостно сознавать: пишет юноша, не научившийся или сознательно не желающий (тогда это еще прекраснее!) врать, приспосабливаться, угождать кому-то, выгадывать "кусок" для себя... Что же, на мой взгляд, заслуживает в Каретникове наивысшего балла? Отвечаю без колебания: естественность!
Дальше в синей папке оказались вроде бы "лишние", случайные листочки разного формата, но, мне кажется, их нельзя и не надо изымать из будущей книги. А книга, не сомневаюсь, обязательно состоится. "Случайные" листочки помогают заглянуть в душу мальчишки, которого я успел уже полюбить. И признаюсь в этом откровенно, хотя кому-то такое признание может показаться и легкомысленным. Что делать...
Но не будем терять времени вернемся к синей папке, к самому Вундеркинду].
Клетчатый листок из школьной тетради (чужой почерк).
Документы позволяют установить, что за год Кирилл Каретников получил около двухсот отметок: сто три пятерки, шестьдесят семь четверок и пять троек. Десять раз поведение было названо примерным, пять — удовлетворительным. Есть в дневнике письменные замечания: "Мешал начать урок", "Не слушал объяснения", "Не выучил текста, небрежно записывает задания на дом".
Кроме того, на желтоватом, вклеенном
в дневник листке аккуратным учительским почерком записано:
"Кирилл Каретников способный, с хорошими природными данными ученик.
Материал усваивает легко. Обладает прекрасной памятью. Подвижен и непоседлив.
Очень самолюбив. Бывает дерзок.Переводится в третий класс. Обратить
внимание на развитие усидчивости, упражнять в устном счете".
Из письма к отцу.
Очень жаль, что ты был в рейсе, когда я собирался в лагерь. Думал про наш разговор. Помнишь, ты сказал: "Надо сперва научиться отвечать за себя, а потом — за людей"? Извини, папа, но я не согласен. Чтобы активно жить, надо до всего иметь дело и по полочкам не раскладывать: это лично мое, а то — твое, а там — ихнее. Жить активно, я думаю, это, во-первых, во все лезть, а во-вторых, не бояться отвечать за себя и за других.
Из писем к матери.
Пожалуйста, очень тебя прошу, не присылай и тем более не привози ничего сверх. Вообще тебе бы лучше сюда, в лагерь, не мотаться. Кормят нас нормально. Мыло и пр. у меня есть. Чего меня баловать? Тем более я подаркам не радуюсь — не маленький! И самое главное — не хочу, пойми меня, выделяться, быть в особом положении. Как все, так и я...
Мама!
Ты совершенно напрасно обиделась. Просто ты меня не так поняла. Не писал
я, что не хочу тебя видеть, а писал: лучше тебе не мотаться в лагерь,
а спокойно отдохнуть дома. Так я же о ком беспокоился? О тебе! На что
же тут может быть обида?
К нам приезжал доктор Цессарский, ветеран войны. Рассказал много интересного.
В Ровно Николай Кузнецов, разведчик, получивший потом всемирную известность,
бросил гранату в генерала Даргеля. Осколок рикошетом задел Кузнецова.
Он вернулся на свою базу, и тут доктору Цессарскому пришлось этот осколок
вытаскивать.
Кузнецов сказал, чтобы оперировали без наркоза.
Цессарский даже растерялся. Боль адская будет без наркоза, стал спрашивать: для чего такая пытка? Но Кузнецов настоял: никакого наркоза не надо. А потом объяснил: человек должен знать меру своих возможностей.
Понимаешь, как это важно знать — сколько ты можешь вытерпеть. Все время думаю об этом...
На письма Оле Масленниковой, однокласснице.
Это все глупости: красивые слова, кровью написанные клятвы. Для чего слова? Другое дело — д е л о, то есть поступок. От того, что сто раз скажешь "халва", во рту сладко не станет. Это не я придумал — это на Востоке говорят. И правильно!.. И еще скажу про романтику — тень! Вот что такое романтика — тень неопознанных объектов. Привлекательны не сами объекты, а загадочность, их скрывающая...
Из письма неизвестному адресату.
Редко, кто может сказать человеку неприятную правду. Я не составляю исключения. Решил поэтому написать. Уважать тебя я не могу: не за что. Ты все подгребаешь под себя, никто и ничто, кроме собственной персоны, тебя не занимает. А персона твоя — фикция! Пускать пыль в глаза, наводить тень на плетень, ронять в разговоре значительные имена, к которым ты якобы причастен, а что еще?..
Обычно книги заканчиваются страничкой
"содержание". Но ты — пустая книга, книга без "содержания"...
Записка на голубом листочке.
Кирюша! Почему ты упрямо молчишь?! Считаешь, что виновата я? Так? Читаю в твоих глазах осуждающие мысли... И боюсь. А может быть, я все-таки ошибаюсь? Тогда тем более не могу понять твоего молчания... Теперь ты меня понял? Ты же обещал писать, а письма все нет и нет!
9. Когда мама вернулась из милиции,
ее просто колотило, и она первым делом накинулась на меня:
— Позор, срамота!.. Дожила с твоей помощью — в отделение потребовали!
И все твои дружки-приятели, шантрапа всякая! Сколько раз говорила: не
води в дом кого попало... Весь в отца...
При чем тут был отец, я не понял.
А мама все возмущалась и требовала, чтобы я позабыл, как моих "проходимцев"
зовут, а потом выпила воды, вытерла лицо полотенцем и вдруг спрашивает:
— А деньги где?
У меня отпад челюсти: какие еще деньги? Наверное, видочек у меня сделался вполне убедительный, потому что мама сразу успокоилась и сказала, что в милиции какой-то прохвост напел, будто я продал ему поношенные джинсы за семьдесят пять рублей и еще кое-какие заграничные шмотки чуть не на тысячу! Маме показали вещи. Отцовские джинсы она сразу узнала, а все остальное барахло видела первый раз в жизни. Так она и сказала капитану, который с ней разговаривал. И тогда капитан велел, чтобы в милицию пришел я: надо написать объяснение, как было дело...
Постепенно я стал соображать: Саша
Лапочка — полный гад! Но он меня не особенно интересовал. И я спросил:
— А почему ты сказала, что я весь в отца? В каком смысле мне это понимать?
Мама стала объяснять, но до того путано, что я не сразу понял, как связаны между собой совершенно разные вещи. И все-таки картина помаленьку-полегоньку начала прорисовываться.
В давние годы у отца был друг. Они вместе служили в армии. Потом этот друг оказался в Киеве. Спустя время отец узнал, что с другом беда: его судили и осудили. А в Киеве осталась жена с маленькими близнецами, девочкой и мальчиком. Отец, не вдаваясь в подробности, не уточняя, что совершил его друг, как и почему, решил помогать той женщине и ее ребятишкам. И стал посылать им деньги, иногда писать письма, а когда ребята подросли, отправлял им всякие мелочи — игрушки, картинки — вроде подарки и приветы от их папы.
История эта тянулась, пока друг не вернулся к своей семье. Он прислал отцу письмо. Благодарил, клялся в любви, уверял, что считает себя его должником и все такое. Но... вскоре снова оказался за решеткой.
Отец рассудил так: друг не оправдал его надежд, дрянным оказался человечишком, тут ни прибавить ни убавить, а дети чем виноваты? И стал снова помогать растить близнецов. Тогда возмутилась мать: с какой стати отрывать от своей семьи? Кто его знает, что из деток еще вырастет, ведь известно — яблочко от яблоньки недалеко падает...
И тут я, кажется, стал понимать, на что намекал отец, когда говорил: есть в жизни важные вещи, которые не сразу и объяснишь, и обещал мне позже рассказать, почему они с матерью решили разойтись.
А в назначенное время в милицию я не попал. Но это уже отдельная история.
Папа Оли Маслениковой оказался в
больнице в тот самый момент, когда в их квартире начался ремонт. С отцом
случился инфаркт. Опасная болезнь сердца. От инфаркта многие умирают.
Короче, отца Олиного упрятали в больницу. Олина мама, понятно, каталась
к нему каждый день и меньше всего думала про ремонт. И все у них в доме
пошло через пень в колоду.
Тут-то Сонька Крохина — она в одном доме с Олей живет, понятно, в курсе
всех дел, — мне и сказала, что Оля дня три в школу не придет: ей надо
хоть как-то привести в порядок квартиру. Отца выписывают из больницы,
а он такой: как увидит, что в доме все вверх ногами, так или опять с
инфарктом завалится, или полезет наводить порядок, а ему еще ничего
поднимать, передвигать нельзя.
Все это Сонька мне пропела, а я
предложил: "Давай поможем! Вот подходящий случай без лишних слов
продемонстрировать, что такое выручка, взаимодействие и прочая и прочая,
о чем вам все уши в "Пионерской правде" прожужжали".
Ребята согласились. Я решил никого не заставлять, не упрашивать — кто
хочет, приходит! Назначили время и место сбора, чтобы явиться к Оле
всей бригадой. Ее предупреждать не стали. Когда так вдруг — интереснее.
А меня тянут в милицию. Как нарочно, в тот же час.
Матери я ничего объяснять не стал, она бы сразу — в обморок: "Не пойти в милицию!? Нарушение!" Но я решил: а куда милиция денется? И еще я потому так рассудил, что накануне с отцом по телефону разговаривал, обрисовал ему обстановку, и он сказал:
— Раз ты мои старые портки просто
так этому Сашке Бантику отдал — не переживай! Никто, кроме меня, по
этому поводу возмущаться не должен: единственный "пострадавший"
— я. А в милиции как все было, так и расскажи, но не расшаркивайся,
не старайся никому понравиться. Коротко, по-деловому — и привет! "Моя
милиция меня бережет". Ударение на — м о я. Понял?
Тут я спросил у отца про киевского друга и близнецов. Папа вопросу удивился.
Предложил обсудить при встрече. Он очень не любит долгих телефонных
говорений.
— А сколько им теперь лет? — все-таки спросил я.
— На два года больше, чем тебе, — сказал отец и сразу попрощался.
У Оли мы вкалывали как черти. Прежде всего отдраили пол в той комнате, где должен был находиться ее отец. Вымыли окна, расставили мебель. После этого сразу взялись за коридор, кухню и другие места — без окон. И все довели до полного блеска. Пока мы эту работу ломили, Димка все выкрикивал:
— Порядок в танковых войсках!
При чем тут были танковые войска — никто не понимал: загадка! Но все веселились.
Совсем незаметно сделался вечер. И сразу жутко захотелось есть. Выяснилось: еды в доме навалом, а хлеба — ни крошечки. Сбегали в булочную. Пожевали. Сразу срываться показалось неудобным. Оля включила маг, мы немножко потоптались.
Собрались уходить, а тут Олина мама
из больницы вернулась. Давай нас нахваливать и рассказывать про Олиного
папу. Понятно, мы еще задержались. Словом, домой я попал довольно поздно.
Не успел переступить порог, мама со слезами в голосе:
— Что они с тобой столько времени делали?
— Кто? — не понял я.
— Как — кто? Милиция...
Мне бы сказать, что я в милиции
не был и объяснить, как мы с ребятами Оле помогали привести в порядок
квартиру. Скорее всего, мама пошумела бы и успокоилась, а я стал напускать
туману:
— Да ничего особенного со мной никто не делал. Разговаривали, целый
вагон всяких вещей показывали. Знаю не знаю — велели отвечать. А потом
объяснение писать заставили и еще переписывать.
— Безобразие! — возмутилась мама.— Ребенка до такого времени продержать в отделении! Ни на что не похоже.
— Ну, — подумал я, — все. Кончилось!
Но ошибся. На другой день, когда
меня не было, позвонил милицейский капитан и спросил у матери: почему
я у него не был в назначенное время? Как разговор дальше у них шел,
не знаю. Но только я вернулся, мать молча мне по морде раз, два... И
сама в плач:
— Негодяй! Обманщик! Подлая душа...
Судите по вашей совести, но постарайтесь понять: у меня тоже гордость есть. Пусть глупая, пусть недоразвитая, в конце концов, пусть даже детская, а все-таки гордость! Так почему же у меня душа подлая? В чем выражается мое негодяйство?! Но как бы там ни было, а я повернулся кормой к дому и пошел. Молча. Ни одного слова не произнес.
Что значит — "и пошел"? Передвигался я обыкновенно, на своих двоих, а внутри кипел и взрывался... Больше всего я ненавидел в этот час милицию: все ведь началось из-за какого-то неизвестного мне капитана... И мать, понятно, тоже хороша... Ничего не спросила — сразу драться! А мне что делать? Мать — не Леха, ей между глаз не врежешь.
Возмущался я довольно долго, и если ни с кем не подрался и не учинил скандала, то по чистейшей случайности — был вполне готов!
Теперь в порядке самокритики.
Пока внутри кипело, все в моем сознании были виноваты. Все-все вокруг. А я?
Конечно, я был пострадавшим от людской несправедливости, от черствости окружающих, от их формализма. Милицейский этот чин мог бы и не дергаться, мог бы и обождать малость! Я был пострадавшим от всеобщего эгоизма: всякого его личные дела интересуют в миллион раз больше, чем дела стоящего рядом, чужие дела людей только раздражают.
Но!
Мне пришлось расплачиваться за то, что я совершенно выпустил из виду наставление мудрейшего Марка Твена: не надо врать, и тогда не придется запоминать ничего лишнего.
Скажу с полной откровенностью: я не врун. Даже могу больше заявить: не люблю обманщиков, и когда самому приходится... ну-у, брешу иногда, только всегда переживаю при этом. И еще, хуже того, мне не везет: стоит соврать — и готов! Схвачен, посрамлен и наказан...
Кто же виноват? Наверное, и я тоже. Ох!..
Теперь все легко по полочкам раскладывается и научно анализируется: кто прав, кто виноват. А в тот момент, когда я повернулся и пошел из дому, мне не до анализа было, я даже не знал, куда меня понесут ноги.
 |
На улице было шумно. Вечер только начинался.
Сперва я посидел в скверике у фонтана. Купил и слизал порцию фруктового. Что люблю, то люблю — фруктовое мороженое! Пусть оно и самое дешевое, а какой вкус? У-у! Лизал и думал: дверью я правильно хлопнул, так и надо было. А что дальше? Ехать к отцу — он жил в квартире своих знакомых, те завербовались на три года в Африку, — было бессмысленно: отец — в рейсе, пустить меня в дом просто некому. Возвращаться к себе? Опять разговоры, упреки, объяснения...
Мимо прошли какие-то лбы с орущим "магом". Музыка на показуху меня только злит. Я разменял гривенник на пять двушек и решил позвонить Лехе. Не очень хотелось ему звонить, но больше некому было. Леха сразу проявил чуткость. Как услыхал, что я говорю с улицы, сразу позвал к себе.
Мы сидели с Лехой вдвоем, когда явился его отец. Пал Василич был заметно под градусом и не скрывал этого. Ему, видно, охота была поговорить, и он, ввалившись к нам в комнату, сразу начал:
— Большой пардон, студенты! Родитель несколько не в форме, не обессудьте: се ля ви, такова жизнь. Эпоха! Главное — сознавать...
Мне, привыкшему совсем к другому отцу, наблюдать Пал Василича было и неловко, и как-то совестно, хотя... и забавно тоже.
А он еще долго рассуждал на разные житейские темы и все повторял свою главную мысль: жить надо уметь!
Как уметь? А так: не обманешь — не продашь; не словчишь — не купишь. Если верить Пал Василичу, выходило, будто наиглавнейшее умение жить заключается в том, чтобы пролезать сквозь щель, сматываться через форточку, когда надо, завязываться в узел или, наоборот, вытягиваться в нитку.
Наконец он ушел. После него осталась завеса табачного дыма, пропитанная к тому же легким спиртовым духом. Довольно противная химия.
Мне не пришлось проситься на ночевку. Леха сам сказал: "Оставайся" — и достал из коридорного шкафа спальный мешок, резиновую надувную подушку. Он предложил разыграть: кому достанется длинная спичка, тот ляжет на диване, кому короткая — в спальнике на полу. Мне досталась короткая спичка.
Было жестковато, но спал я без сновидений.
Проснулся рано. И сразу вспомнил: воскресенье! В школу идти не надо.
Я еще полежал в мешке, делал вид, что сплю,— разговаривать не хотелось.
Думалось обо всем сразу в ни о чем определенном.
Завтракали мы с Лехой вдвоем: родители его еще спали. Леха отворотил
по пять шматков колбасы каждому, отрезал сыру, хлеба. Он старался и
все спрашивал:
— Может, сметаны хочешь или творога? Потом вдруг предложил выпить, но я сказал:
— Не хочу.
Леха не стал уговаривать:
— Вообще-то правильно. Натощак — последнее дело.
Потом к Лехе притащился Сашка Лапочка. Увидел меня и прикинулся, будто рад до смерти. Или он не знал, что мою маму уже таскали в милицию, а меня там ждут, или притворялся, это мне неизвестно.
Сашка посидел недолго, пошептался о чем-то с Лехой на кухне, прокричал из коридора:
— Общий салют!
Воскресенье тянулось долго. Сначала мы занялись было какой-то ерундой. Леха решил переделать фотоувеличитель. Для этого требовалось нарастить штангу, что-то подпилить и пригнать: он хотел, чтобы фонарь подымался выше. Но скоро Лехе эта работа надоела, и он предложил:
— Прошвырнемся?
И мы отправились шляться. К нам присоединились Димка Аверкин, Галя Даманова, откуда ни возьмись подгребла и Валька Сажина. Валька предложила навалиться на мороженое.
Потом мы забрели на малышовую площадку и долго выламывались друг перед другом, балансируя на бревне, на маленьких качелях. Почему-то много смеялись, хотя я не думаю, что кому-то было очень уж весело.
Как-то само собой получилось, что я снова ночевал у Лехи, и теперь спал на диване.
— Твоя очередь, — сказал Леха. — И не торгуйся.
Засыпая, я думал не о доме, как, наверное, следовало образцово-показательному беглому сыну, а о ребятах, с которыми проваландался весь вечер. Димка Аверкин — ничего парень, точно, не слабый мужик, а разговаривать с ним затруднительно: о чем ни начать, он все равно свернет на радио, электронику, будет лепить транзисторы на резисторы. Просто конец света!
Наверное, Димка меня полным дураком считает: я в этих делах — полнейшая тундра в двенадцать часов ночи, темнота.
Кстати, на этой почве у нас с отцом разногласие. Папа считает, что техника — начало всего в нашей жизни, он горой стоит за электронику, говорит, она будущее всех-всех людей.
Меня уже покачивала сонная зыбь, когда представилась Галя Даманова. На лицо она вполне: и глазастая, и нос тонкий (не моя картошка!), а в остальном — детский скелетик. Я не удивляюсь, что Галка физкультуру прогуливает — кому охота костями сверкать? А вот Валька, Сажина Валька... Как настоящая тетка, мягкая такая... От нее всегда хорошо пахнет, или мылом душистым, или парфюмерией,— не пойму. Зря она только чуть что — смеется. Да как! Ржет! Люди мимо идут — вздрагивают! А смешного-то на самом деле ноль целых и ноль десятых...
Тут я булькнул, то есть заснул.
10. Когда Светка, старшая пионервожатая, заплыла на наш третий этаж, то разыскала меня и с вреднейшей улыбочкой сообщила:
— А тебя, Каретников, Матвей Семенович хочет видеть! И поручил мне доставить...
Я и не подумал, что директор обо мне сильно соскучился, что он зовет меня потрепаться за жизнь, ясно — будет втык. Так что "веселей запевай, запевала, эту песенку старых друзей...".
Накануне я пришел в школу без книжек. Не хотел заходить домой от Лехи — мать могла еще не уйти на работу. Что еще?
Матвей Семенович — нормальный мужик, без толку орать не станет, но приближаться к нему надо с осторожностью: директор — зверь всегда опасный! Ему что нужно: дисциплина и успеваемость, а иначе перед начальством скверный вид будет...
Успеваемость и дисциплина — с него за все спрашивают! А нам... И тут я понял, что совершенно не могу определить, чего нам, то есть ребятам, больше всего охота. И пожалуйста, не улыбайтесь, а попробуйте коротко и толково ответить: что?
Конечно, Валька Сажина долго думать не будет: подай ей три кило шоколада, смолотит — и обалдеет от счастья. И Соне Крохиной, я думаю, картина тоже ясна: померла бы немка — и ничего больше не надо.
А если серьезно: что?
Шестиклассник — вроде еще не человек, скорее, он кандидат или абитуриент, как называют тех, кто только еще лезет в студенты. Нам полагается заглатывать всякую науку, воспитывать сознательность, укреплять и совершенствовать характер, чтобы... Внимание! Чтобы стать людьми. Спорь не спорь — деваться некуда: нам отведено время будущее! Ну, а я бы желал больше всего быть переведенным во время настоящее, чтобы другие не рассматривали меня сегодня как инфузорию или бесконечно малую величину, почти ноль. Пусть я и не вполне еще испеченная или выработанная личность, но все-таки не сырое тесто!
Гайдар в шестнадцать лет полком командовал.
Пушкин в свои пятнадцать такие стихи писал, что мало кому в пятьдесят удается. И душа у него как пылала!..
Тут лестница кончилась.
До директорского кабинета оставалось
ровно шесть шагов. Я сказал: "Ни пуха ни пера!", сам себя
послал к черту и постучал.
Матвей Семенович курил и смотрел хмуро. Он выдержал длинную паузу —
это у него прием такой: помариновать человека! — а потом:
 |
— Так где ты ночевал в последние дни,
радость очей моих?
— Вне дома,— сказал я, стараясь держаться молотком.
— Нельзя ли узнать точнее?
— Можно, но не стоит, — кажется, мне даже удалось улыбнуться директору
— понятно, саркастически улыбнуться...
— Причина? — спросил Дир и прикурил от старой сигареты новую.
— Не могу оставаться под родными сводами, когда меня незаслуженно оскорбляют.
— Интересно-интересно! А какими средствами тебя оскорбили под родными
сводами, да еще незаслуженно?
— Примитивно, по морде... Сначала раз, потом — два.
— Просто так или все-таки за что-то, а?
— Ну-у, не совсем без причины, только не вполне за дело, если по большому
счету...
— Крутишь! А ведомо ли тебе, что в армейских уставах черным по белому
записано: строгость взыскания обжалованию не подлежит? Улавливаешь —
с т р о г о с т ь! Это на будущее. А почему ты в милиции не был?
"Та-ак...— подумал я. — И про милицию знает. Что только до него дошло? Как бы ребят не впутать".
— Стремился, Матвей Семенович, но не
получилось. Как бы сказать... Ноги не дошли. А душой я летел... Не думайте
— я от милиции не прячусь: моя милиция меня бережет! Все понимаю.
— Нет, Каретников, не понимаешь. Дома не ночуешь, по вызову не являешься
— значит, прячешься. Мне капитан Смирнов звонит, справляется, жив ли
ты, здоров ли, просит найти, — директор замолчал.
Я, понятно, тоже вылезать не стал, жду.
— Молчишь? Правильно! Сказать тебе
совершенно нечего. Отец сейчас где?
— Должно быть, на подъезде к Праге.
— Понятно! Выходит, к капитану Смирнову мне тебя вести, а потом провожать
домой?
Я было хотел сказать, что могу сам, но Дир не дал:
— Помолчи, ишак! Ты бы лучше обратил внимание, я не спросил: почему
милиция о тебе вздыхает, что ты натворил? Почему не поинтересовался?
Как считаешь, Вундеркинд?.. Полагаю, Кирилл Каретников с прилавка не
украдет, человека не зарежет, вообще большой подлости не совершит...
Глупостей напороть, в амбицию ввалиться — это сколько угодно, это препожалуйста!
Теперь вопрос. Совет, помощь мои требуются?
— Спасибо,— сказал я и, кажется, даже
поклонился, как в кино.
— Спасибо, да? — Дир ехидно улыбнулся: — Или спасибо, нет?
— Спасибо нет.
— Ну, как знаешь... Ступай в милицию. Сейчас ступай. Капитан Смирнов
ждет. Что мне сказать матери? Она просила позвонить ей на работу, Кирилл,
как только станет что-нибудь известно.
— Скажите... жив, в порядке.
— Ночевать домой явишься?
— Я сам ей на работу позвоню, Матвей Семенович, так что спасибо.
— За что спасибо?
— Ну как... Не орали, разговаривали, как с человеком... Значит, получается,
что спасибо вам за терпение.
И тут Дир неожиданно подмигнул мне я объявил голосом циркового:
— Всегда пожалуйста, с нашим категорическим
приветом! А теперь исчезни! Брысь!
Что доказывать, директорский кабинет — не самое лучшее место на белом
свете. Виноват ты или не виноват, а идти туда всегда не охота. У меня
еще и особая причина есть: воспоминания третьего класса.
Тогда Фаина засекла меня на уроке я спросила, чем я занимаюсь под партой. А я и правда занимался: гонял, шарик в коробочке-лабиринте. Игрушка была не моя — Димкина. Я испугался: а ну-ка отберет — с нее сдастся! И сказал:
— Ничем я не занимаюсь.
— Еще и обманываешь?! Хорош! — Она говорила я придвигалась все ближе.
— Вынь руки из карманов! Ну, кому сказано?
Притиснув колено к колену, прижав локти к бокам, подбородок — к груди, я весь сжался и молчал. Слышал, как сердце колотит в ребра — часто-часто, вроде взбесившийся будильник.
— Долго мне ждать? Показывай, что в карманах! — И жирная короткопалая рука протянулась к моему локтю.
Мне сделалось сразу жарко. И еще страшно, противно тоже. Совершенно машинально я сделал попытку отступить, отпрянуть и... уперся в холодную стенку спиной. Стенка была краем всему. Безнадежностью! И тут, дрожа всем телом, я с великим трудом выговорил не языком даже, не губами, а пульсирующим горлом:
 |
— У-ку-шу!
Сразу сделалось совершенно тихо. Ноль этих... децибелл.
— К директору! Моментально! Объяснишь ему... — Как ни странно, эти слова
Фанька произнесла совершенно нормальным голосом, старательно, как директор.
Расстояние, отделявшее директорский кабинет от нашего класса, я преодолел не помню уж как. Остались в памяти только шесть последних шагов по лестничной площадке. Потом я лопотал:
— Фаина Исааковна... меня к вам...
и велела... чтобы я...
Сперва директор смотрел на меня с нескрываемым изумлением. Я же видел
его здоровенные, как тыквенные семечки, зубы, робел и путался еще больше.
— Успокойся, — сказал наконец директор, — сядь на диванчик, немного отдохни, а после мы поговорим.
На диване я сидел долго и от нечего делать разглядывал кабинет. Серовато-желтые стены были увешаны черными полками для книг. Книг было не очень много. Некоторые стояли торчком, а другие — те, что были потоньше, — валялись. Еще на одну полку затесались часы. Они все время показывали четверть второго. И был там спортивный кубок, блок сигарет, маленький глобус на сломанной подставке, а еще трубки бумаги — наверное, свернутые карты или плакаты.
На столе у Дира творилось тоже черт знает что: книги, разные тетрадки, газеты и журналы, две здоровенные, полные окурков пепельницы, пустой стакан с присохшим к ложке куском лимона. А еще — красный телефон. Странно, только такой замечательный беспорядок на столе меня как-то успокоил. Подумал: "А может, пронесет?"
Пока ничего страшного не было. Дир разговаривал по телефону, меня не трогал. От стола летели слова: "Болер... Сгон..." Дир спрашивал: "А кто будет прессовать?" Я ничего не понимал.
Потом в кабинете появился расстроенный учитель физкультуры Мурад Саидович. И Дир спросил у него, как все произошло. Мурад Саидович стал говорить, что кто-то из седьмого "Б" самовольно отпер зал. Ребята стали лазать по снарядам. Губер зацепился за оттяжку брючиной и упал...
— Перелом? — тревожно спросил Дир.
— Похоже, вывих,— сказал Мурад Саидович.
— Тоже плохо, но все-таки легче. — Дир опять прикурил сигарету от старой
сигареты. — Все это, Мурад Саидович, в письменном виде мне к концу дня
прошу положить на стол.
Он снова взялся за телефон, а я сидел.
Громко топая каблуками, в кабинет, можно сказать, вбежала тетя Клава, буфетчица.
— Что ж это такое, Матвей Семенович! Опять сахар покрали! Насыпала тарелку с верхом, культурненько ложечку воткнула — пользуйтесь, пожалуйста! На здоровье, детки. Не успела отвернуться — нет! Ни сахара, ни тарелки. Стаканов тоже нет. Это же хулиганство!
Она, я думаю, говорила бы еще, но Дир остановил тетю Клаву и стал ей втолковывать, что школа и он лично смотреть за ее стаканами, тарелками и прочим имуществом не будет. За чистотой — да, за порядком — обязательно, за уплатой денег на завтраки — тоже, а вот сторожить — нет.
Тетя Клава не успокоилась и начала все сначала.
Но директор — молодец! — не поддавался...
А я все сидел на диванчике. Времени прошло уже много. Мне захотелось есть, кое-куда тоже надо было бы выйти, но я боялся напоминать о себе.
После тети Клавы приперлась Светка.
Она важно очень разложила перед Диром какие-то свои бумажки и хотела, я так думаю, начать объяснять, что в них написано, но Матвей Семенович — молоток! — сделал рукой: стоп! И велел ей сходить выяснить, как чувствует себя тот парень, вывихнувшийся в зале.
В кабинет Дира, пыхтя, как паровоз, протиснулся Роман Абрамович. Труд и завхоз. В руках у него были две здоровенные авоськи, полные ярких коробок. Ему было тяжело: лицо Романа Абрамовича сделалось красным, плечи сильно оттянулись вниз.
— Вот, Матвей Семенович, полюбуйся! Дали на квартал! Это как — возможно? Лестницы моем? Моем! Туалеты моем? Моем! Вестибюль моем? Моем! И пожалуйста, на все про все — вот! Фармазонство какое-то, мимикрия фактически...
— Вам надо отдохнуть, Роман Абрамович, — сказал Дир, внимательно взглянув и что-то увидев в лице огорченного завхоза. — Не расстраивайтесь. Все-все-все. Пока идите, все...
А я сидел. О чем-то, конечно, думал, соображал что-то, только уже не помню, о чем именно были мысли. Потом меня закачало, чуть-чуть стало трясти, и откуда-то издалека донеслось:
— Отдохнул, Каретников?
Глаза мои открылись. Оказалось, я лежу на диванчике, а надо мной возвышается, уходит, как мне показалось, к самому потолку Дир. Там, в вышине, желтеют его здоровенные зубы. Только теперь его прокуренные зубы не пугали. Ну большие, бывает.
— Отдохнул? — снова спросил Дир. — Беги домой — уроки кончились.
Странно, он же ничего мне не сказал, ни капельки не ругал, даже и не спросил, что произошло на уроке, а во мне что-то переключилось... Вот с тех пор и думаю: сколько же способов существует, чтобы воздействовать на человека, и совсем не обязательно одними только словами, словами, словами лечить нам мозги! Вообще я думаю, это неправильная жизнь, когда одни разговоры. Раньше ребята в ночное лошадей гоняли, вместе с родителями в поле работали, в лесу... А мы про это только в книжках читаем! Серьезно, почему мне, Каретникову, на четырнадцатом году жизни невозможно подработать, например? Или почту разносить, или в магазине помогать при разгрузке-перегрузке, или лифты убирать... И чтобы так было: больше, быстрее, лучше сделаю — получу соответственно, а нет — так пусть меня в три шеи вытолкают! Не от жадности я так рассуждаю. Кто деньги сам зарабатывает, тот и какую-то независимость получает. И это куда справедливее, чем попрекать: деточка, иждивенец, захребетник... Мы что — виноваты?
А слушать и не то еще приходится.
Вы меня извините, пожалуйста, товарищи взрослые, но я хочу задать вам один вопрос: дожили мы или не дожили до демократии? Если дожили, если вот-вот доживем, то хорошо бы вам принять во внимание, что дети составляют молчащее большинство человечества!
Неужели никому в голову не приходит — нас большинство! И я так думаю, что этому большинству надо было бы предоставить хоть какой-то голос. Не решающий — так совещательный или вспомогательный.
Пока я еще малышом торчал в директорском кабинете, заметил, хотя и не вполне понял суть дела: кто бы в кабинет директора ни входил, изменяется лицом. Ну, не лицом, а выражение у человека делается другое. Возьмите Светку. Она с нами о-го-го как нос дерет, куда ты, близко не подходи, а к Диру подруливать стала... Тьфу, лучше не видеть! Или Роман Абрамович. Он всем и каждому показывает, какая он в школе шишка! Можно подумать, вся школа на директоре, да на нем висит... А на начальника смотрит, это в кабинете, как кот на сало, — умильно, с готовностью: чего прикажете, мы мигом сообразим, раздобудем, приволокем...
Не хочется про людей плохо думать. И отец советует: нового человека принимай без колебаний, держи за друга. Ну а дальше приглядывайся, оценивай и не спеши осуждать... Так-то оно так, наверное, правильно, а не всегда получается.
Юрий Павлович на уроке истории один раз интересную штуку сказал: "Добро без зла не живет. Эти два начала существуют и борются". И если я его понял правильно, ни зло не может одолеть добро, ни добро победить зло тоже не может. Выходит, вся штука в самой борьбе. Пока она идет, зло не торжествует или торжествует только временно.
11. Интересно бы узнать, что про меня думал капитан Смирнов до того дня, как я к нему явился? Ждал, придет такой придурок — учиться не хочу, трудиться не желаю! В голове одно: болтаться по улицам, приставать к девчонкам, драться с мальчишками... А может, я ему представлялся этаким жучком, юным делягой, скрытым врагом общества и в недалеком будущем опасным правонарушителем?
Впрочем, гадай — не гадай, узнать ничего не узнаешь.
Встретил меня капитан Смирнов не слишком приветливо. Первым делом обругал: почему я не пришел сразу, когда он звал? А потом выдал такую трель:
— Что это за дела? Дома не ночуешь ты, а дырку в голове кому твоя мамаша сверлит? Мне! Или ты полагаешь такое положение справедливым? Или считаешь, мне это удовольствие? — А дальше предупредил: — Говорить будешь только правду!
А знаете, почему? Сейчас лопнете, честное слово, когда я скажу! Потому что он, капитан Смирнов Никита Васильевич, терпеть не может, "когда заливают, то есть врут, особенно если без острой необходимости".
После такого оригинального предупреждения он накидал мне, наверное, пять тысяч вопросов. Кто такой Леха? Фамилия?
Адрес? Как зовут отца? (Оказалось, не Лехиного — моего). Где работает? Кем? Какие у нас отношения? Чем я занимаюсь вне школы? Оля Масленикова — кто? Нравится? Чем? Музыку люблю? Какую? Маг есть? Отец кассеты привозит? А пластинки? Сколько у меня личных денег? И опять: что за тип Леха?
Тут я спросил:
— Скажите, товарищ капитан, а есть такой
закон, по которому я обязан выдавать характеристики на своих товарищей?
И вообще — капать на кого-то?
— Закона, касающегося характеристик, нет, а отвечать на мои вопросы ты обязан.
— Раз обязан — слушайте. Леха — нераскрытый гений! Он — знаменитость двадцать первого века, возможно, даже будущая гордость человечества.
— В какой области? — без улыбки осведомился капитан. — Это очень важно, Кирилл Георгиевич.
— Леха — прирожденный футуролог, кроме того, он тоже прирожденный организатор масс, лидер!
— Прекрасно. А Саша Лапочка разве не лидер? Кто у кого на поводу идет?
И закрутилась новая спираль раскрутки. Всего пересказать просто невозможно. Мне вспомнилось, как в кино показывали охоту на лис с флажками. Обкладывают, обкладывают, а потом гонят на стволы, ну, на ружейные, на охотничьи, понятно, стволы. Ты хитра, рыжая, только мы хитрее — так охотник считает...
Под конец капитан сказал:
— Вот держи бумагу, напиши, где живешь, как было дело с посещением твоей квартиры Сашей Лапочкой, куда ты потом девался, когда не ночевал дома, укажи, где ночевал. Опиши все подробно! Что не вполне понятно, когда станешь писать, спрашивай. Ясно?
Не хотелось, но написать пришлось.
Сашка не мой лучший друг, только капать на него... Это вообще не в моей натуре — капать. А тут получалось — пусть не капаю, а все-таки брызгаю на человека. Но спорить с капитаном я не мог: показания давать обязан.
— Нарушитель — доказывал мне капитан Смирнов, — не всегда, но часто оказывается на пути к знакомству с Уголовным кодексом...
— Мне, знаете, отец рассказывал, — не выдержал и влез я, — когда он в армии служил, у них старшина любил выступать с такой программой: сегодня пуговица оторвана, завтра автомат недочищен, послезавтра пререкание со старшим допущено, а через неделю за пачку сигарет Родину продадите! Как, по-вашему, Никита Васильевич, старшина этот был большим философом?
Странное дело, капитан не разозлился, не стал мне выговаривать, ставить на место, а так, вроде между делом, заметил ленивым голосом:
— Какой философ: популяризатор. — И, оживившись, будто что-то вспомнив, совсем другим тоном спросил: — Скажи, Кирилл, а почему ты такой... как будто на еже сидишь? Представь, я тут каждый день столько законченных подонков вижу, что другой раз жить тошно делается... В кои веки позвал приличного парня, хочу поддержку получить, а ты? Да, мне твой Леха не нравится, а Сашка Лапочка — тем более. И я не понимаю, чего ты ершишься, чего пузыри пускаешь? Пусть я тебе не по нутру, пусть даже вся наша контора на нервы действует — разве это основание, чтобы не помочь ребятам?
— Помочь? — Я даже хохотнул нечаянно. — Ну вы даете! Ребятам помочь!
— А ты считаешь, пусть они от проступков скатываются к преступлению? Пусть с ними лучше, чем здесь, в суде разговаривают? Дело-то к этому идет, Кирилл! Ты про Леху помалкиваешь, хотя кое-что о его художествах знаешь. Помалкиваешь и гордишься еще: "вот я какой верный друг", мол. Ломаешь благородство, играешь в порядочность, а не хочешь подумать, что с ним будет, когда он залетит сюда с чем-то серьезным... Например, наркотиками заинтересуется, или воровать начнет. Семь лет я в инспекторах хожу и знаю, что говорю. Если на самых первых шагах парня не удается притормозить, все — покатился! Вся разница в том только: один кувырком летит, а другой сползает. Но все вниз катятся. Вот какое положение. Ты сейчас ступай и думай. Ясно? А я тебе через некоторое время позвоню, возможно, приглашу, так уж, пожалуйста, не будем играть тогда в прятки, чтобы нам без привода обойтись.
Все вроде правильно. Ты видишь, слепой вот-вот загудит с обрыва или свалится в яму, кричи: "Караул!", хватай человека за фалды, держи. С этим я согласен. Но...
Во-первых, Леха — совсем даже не слепой. Где дорога, а где откос, он видит не хуже меня. Во-вторых, мне не улыбается быть спасителем под контролем. Когда я сам по себе лезу — одно, а когда надо являться по вызову и отчитываться: извините, это уже совсем другое.
 |
Возможно, капитан Смирнов — замечательный и достойный уважения человек, допускаю, но я вовсе не хочу быть его правой рукой. Не в характере! Я — кошка, которая желает гулять сама по себе, дорогой товарищ капитан! Это же разрешается. Или я что-нибудь путаю?
Когда я шел домой, цепляясь ногой за ногу, очень уж было лень спешить, в мозгах начало что-то вроде чесаться — у меня всегда так бывает, когда в голову лезут неожиданные мысли. Но на этот раз всплывать стали не мысли, а что-то непонятное и неожиданное:
ШКОЛА НАША — МАЧЕХА...
Было в таком утверждении что-то не вполне привычное, хотя... хотя, пожалуй я соответствовало.
ЧТО СДЕЛАЕШЬ ТУТ
Не сразу до меня дошло — это же стихи прут. Сами. Никогда раньше я не пробовал сочинять стихи, а над поэтическими потугами Вальки Сажиной всегда, как только мог, издевался... Да-а, это была неожиданность! И мне сделалось самому интересно, чем такой зуд может закончится? "Ну-ка, давай, давай дальше!" — подбадривал я себя.
Школа ваша — мачеха./ Что сделаешь тут?/ Хоть и не Чека пока,/ но тоже все на нас прут!/ Знание, говорят, — свет!/ Вопрос: какой?/ Этот или тот?/ Мне мало, конечно, лет,/ но я хочу в полет…/ Летать хочу, не ужиться/ в чахлой траве лесной./ Как же со школой ужиться,/ с матерью неродной?..
Когда я вернулся из милиции и сказал маме: "Знаешь, я совсем не хотел, но так оно вышло...", мама сразу перебила меня: "Здравствуй-здравствуй. И скажи лучше: есть хочешь?"
"Странно, — подумал я и почему-то решил: не иначе капитан звонил и провел инструктаж, как надо со мной обращаться. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Только, чтобы мама сама... — Трудно себе даже представить".
— Есть я хочу. Спасибо.
Мама дала мне есть, а сама сразу же уселась за пишущую машинку. Вообще-то она иногда берет срочную работу домой и тогда подолгу стучит на своем потрепанном "Рейнметалле", но на этот раз ее стрекотание выглядело показухой чистой воды. А смысл был очень простой: нас не трогай — мы не тронем! Понять можно, Наверное, я ей и впрямь основательно надоел.
Выждав немного, я спросил как ни в чем не бывало:
— Чего ты так срочно настукиваешь, ма?
— Снимаю копии с довольно любопытных документов для выездной экспозиции. Можешь взглянуть, если желаешь. — И, не отрываясь от машинки, она протянула мне несколько готовых страничек отпечатанного текста.
Наверное, этого надо стыдиться — я любопытен, как пингвин. Что с этим делать, не знаю даже. Взял, конечно.
Не все бумаги, но две произвели на меня впечатление.
Из первой я узнал, что когда-то в Москве, на Октябрьской улице, в доме сорок семь, жил парень по фамилии Дмитриев. Он закончил десять классов. От службы в армии его освободили по состоянию здоровья. Это в военное, заметим, время!
Тогда этот Дмитриев добровольно выпросился в партизанский отряд, закончив предварительно краткосрочные курсы подрывников.
Он писал домой:
"Здравствуйте, дорогие мама и сестренка! Тринадцатого июля мы выехали из Москвы и легко перешли линию фронта. Шли больше месяца по тылу противника в свой отряд".
Тут давайте остановимся. Попробуем представить обстановку. Вокруг фашисты, а они идут ночами, прячутся в светлое время по скирдам, по оврагам, ждут ночи и снова идут в темноте — месяц! Но его ведь недавно освободили от службы в армии по состоянию здоровья, а чтобы так идти, какие на это ноги нужно иметь, какую силу, не говоря обо всем прочем. Месяц — пехом!
Кошмар!
И еще он писал:
"Вот уже год, как я в партизанах. Я привык к местной жизни и чувствую себя прекрасно. Уже многие сотни немцев погибли от моей руки, и я думаю воевать дальше..."
Меня смутили многие сотни... Трудно представить эти сотни, погибшие от одной руки. Но только я успеваю усомниться, как натыкаюсь на текст справки "Боевой счет Дмитриева Бориса Михайловича".
Читаю. Подготовил 14 диверсантов-подрывников. Под его руководством и при его участии взорваны 18 эшелонов. Это 19 паровозов, 126 вагонов, 72 платформы, 11 артиллерийских орудий, 154 тонны горючего, 32 автомашины, 8 танков, 1260 немецких солдат и офицеров. Вот они, его сотни!
Но это, оказывается, далеко не все.
За пять выходов группа Дмитриева подорвала
1400 рельсов, два железнодорожных моста. Еще в следующие четыре выхода
он уничтожил 19 и ранил 3 охранников железнодорожных объектов. И опять
не все! Дмитриев руководил подрывом 9 железнодорожных мостов и 32 мостов
на шоссейных и грунтовых дорогах, уничтожил 22 автомашины, 3 танка,
2 мотоцикла...
Справка едва вползает в мое сознание. Но больше всего прямо-таки изумляют
1400 штучных рельсов. Дрызнули эшелон — и разом летят в тартарары машины,
кони, люди!.. Это понятно, вообразимо. А к каждому рельсу надо было
ползти, вжимаясь в землю, наверняка дрожа, клацая зубами — как бы не
обнаружили, не открыли огонь... И потом, взрывать — значит, иметь дело
с толом, динамитом, словом, с такой чертовщиной, что ошибись раз — костей
не соберешь и без помощи противника.
23 февраля Борис вступил в открытый бой с оккупантами. Пришлось. Он был окружен и дрался до последней возможности. Расстрелял все патроны, последний оставил себе.
Не берусь сравнивать, кто больше герой, а кто меньше. Дмитриев даже не узнал, что удостоен. Указ пришел уже после того, как он застрелил себя тем последним патроном.
Вот таким был первый документ. Подумать
только, что может один человек! Всякий ли — вот вопрос!
И второй документ.
Мама перепечатала письмо снайпера Розы Шаниной. Она умерла в самом конце войны, ее похоронили в Восточной Пруссии. Вот это письмо.
"Я совершила самовольную отлучку на передовую. Правда неплохо повоевала. Не раз угрожала смерть. Один раз отбивали танковую контратаку врага. Впереди меня подорвали танк в семи метрах, а сбоку в пяти метрах. Раздавило целый расчет: и капитана, и старшего лейтенанта. Конечно, за это я очень переживала, но почему-то за себя — нисколько, хотя чувствовала, что минута — и все...
 |
Участвовала в наступлении, взяла троих в плен, сама лично. Вот мои достижения и радости, чем могу поделиться... Потом меня все же разыскали на передовой и забрали с автоматчиком. После чего мне наложили взыскание по комсомольской линии за самоволку. Конечно, правильно".
Представляете? Самоволка! Куда? На передовую, в самое пекло! Взыскание! За что? Она же троих лично в плен взяла. Девчонка — мужиков! Нет, нет и нет, я не могу понять, почему Роза собственной рукой написала "конечно, правильно". Чего же тут правильного?
И почему тогда говорят: победителей не судят? Выходит, еще как судят!
И разве порядки выдумывают для самих порядков?
Из того, второго документа я узнал еще, что Роза отправила на тот свет 55 фашистов, ее два раза награждали орденами "Слава" — третьей и второй степени, дали медаль "За отвагу"... Все это ясно я понятно. А почему она написала "правильно", не могу постигнуть. Наверное, я недоразвитый, возможно, со сдвигом, только такая самокритика до меня не доходит.
Документы мы с мамой не обсуждали. Немного поговорили на отвлеченные, так сказать, темы, и я пошел спать. Нагрузка на мозг оказалась порядочной: и Дир, и милиция, и документы из далекой войны... Я даже не думал, что все это может как-то суммироваться и воздействовать.
Ночью мне снились цветные военные сны. Все горело, взрывалось, летело куда-то в абсолютной пугающей тишине. Я понимал: так быть не может. Но во сне было именно так. Раз пять я просыпался, хотя обычно сплю как пень. Вставал, пил воду, но стоило опустить голову на подушку, как снова вокруг бесновалась бесшумная война. Было очень страшно.
12. Какое-то время в школе было сравнительно спокойно. Хожу на занятия, получаю отметки, хотя уроков почти не учу, читаю без разбору, и ничего такого... А потом как-то вечером вызывает меня по телефону Леха и говорит:
— Выйди на минутку во двор. Есть дело. Очень срочное!
Мать становится поперек дороги:
— Что за срочные дела в темном дворе? Если твоему Лехе очень нужно, пусть зайдет в дом.
С трудом вырвался. Мать мне вслед выкрикнула: если через десять минут не вернусь, она, мол, сама в милицию позвонит.
Сбегаю с лестницы, вижу — Леха ждет. В руках у него портфель. "Сорвался из дому, — почему-то подумал я, — сейчас скажет: "Пусти переночевать..." Но я ошибся.
— Такое дело, Кирюха, — заговорил Леха почему-то шепотом. — Сашка Лапочка — гад, лопух со своими гешефтами. И теперь на всех валит, на меня тоже. Врет, паразит, вроде я записи ему на продажу делал. Возьми это барахлишко пока к себе. Так, на всякий случай. И пусть тогда приходят и сколько угодно у меня роются... А матери скажи: Леха просил свои книжки захватить в школу, потому что с утра попрет отцу в гараж новый аккумулятор...
Вернулся я домой — и двадцати минут не прошло. Мать покосилась на меня недовольно и спрашивает:
— А это что за сумка?
Ну, я сказал, как велел Леха, мол, его книжки. Мать ни о чем больше не спрашивала, как сидела перед телевизором, так я осталась сидеть — любовалась Мережко, он как раз кинопанораму вел, про новые фильмы рассказывал.
Но ничего так просто не обошлось! Не успел я утром глаза продрать, вижу — мать в полном параде, хотя обычно она встает позже меня. А тут не только встала, но еще и в синем выходном платье, причесанная, губы подмазаны, рот поджат, глаза прищурены. В полном боевом! На мое "доброе утро" ноль внимания. Молчит.
Помылся, оделся, вхожу на кухню, интересуюсь, чего она так рано сегодня собралась. И снова — ноль внимания и фунт презрения.
Сажусь завтракать. Мать завтрак пропускает. Когда я кончил есть, спрашивает:
— Почему ты врешь, Кирилл?
— Что ты имеешь в виду?
— Не прикидывайся, ты же все отлично понимаешь. Изволь отвечать. Я жду.
— Ма, но я ничего не понимаю. Ты о чем?
— Это школьные книжки? — говорит мать, вываливая передо мной целую кучу магнитофонных кассет.
Но этого мало. На стол выпадает из портфеля еще и черный пакет с голыми женщинами, что Леха доставал тогда со шкафа.
Понимаю: кассеты мама еще не переварила, а вот в пакет, судя по выражению ее лица, заглянула. Молчать глупо, надо что-то говорить:
— Это не школьные книжки, но откуда мне было знать про кассеты? И потом, что такого в кассетах? Они же не взрываются!..
— А это? — Мать едва прикасается ногтем к черному пакету. — Это что такое?
Как нас учит история, Юрий Павлович не один раз на примерах показывал, лучшая оборона — наступление. Иду на прорыв:
— Знаю или не знаю, отдельный вопрос. А вот что мне совершенно точно известно: залезать в чужие сумки, портфели, чемоданы, комоды и прочие емкости неприлично (это специально для матери словечко — неприлично!) И подслушивать под чужими дверьми тоже позор!
Я несу полную околесицу еще какое-то время. И кажется, не напрасно: судя по маминому лицу, она начинает колебаться. Но когда я, наконец, вырубаюсь, мама, к моему полнейшему изумлению, говорит неприятно отчужденным голосом:
— Все? Сейчас мы идем с тобой к капитану Смирнову. Ты передаешь ему это подозрительное имущество и, я надеюсь, там будешь разговаривать более вразумительно. Одевайся!
— Иди доноси! Закладывай Леху и меня заодно! Желаешь — валяй! А я никуда не пойду — я не предатель!
Пока из меня вылетают эти слова, я тихонько огибаю угол стола, сокращаю, сколько возможно, дистанцию. Что в кассетах, мне и на самом деле неизвестно, но те картинки к капитану Смирнову попасть не должны ни при каких условиях, иначе Лехе не отмыться.
Мать говорит что-то еще, смахивает кассеты в свою хозяйственную сумку, а я, выбрав момент тигром... И порядок: конверт с голыми дивами у меня в руках. Мать кричит, пытается выхватить конверт. Сопротивляюсь, тоже кричу и, изловчившись, запускаю конверт в открытое окно, на улицу. Черный прямоугольник вертится, как летающая тарелка. Планирует и опускается далеко за зеленой оградой нашего большого двора.
Не теряя зря времени, я с грохотом скатываюсь по лестнице к выходу.
Времени остается в обрез, только-только, чтобы успеть в школу. Но все равно я несусь со всех ног туда, где, по моим расчетам, приземлился конверт. Оглядываюсь вправо, влево — пусто, пробегаю немного вперед, возвращаюсь — конверта нет... Ничего не остается, приходится идти в школу.
Хорошо, хоть никто в этот момент не спрашивает,
что я думаю о взрослых, люблю и уважаю ли родителей... Наговорил бы!
В школу я вхожу вместе со звонком и ничего не успеваю сообщить Лехе.
А когда, кое-как перемучившись урок математики, затаскиваю его на площадку
между этажами и коротко объясняю, как дело было и чем все закончилось,
он вдруг приходит в совершенное бешенство и несет на меня так, будто
я и не пытался сохранить его имущество, оградить самого Леху от неприятностей.
Он орет как псих, что я его обманул, подвел, заложил, чуть не в тюрьму
упрятал... Где справедливость?
— Ты гад! — кричит мне в лицо Леха.
— Повтори, — тихо требую я, начиная задыхаться от встречного бешенства, обиды и не знаю чего еще. — Повтори!
— И повторю, — запросто, хоть сто раз повторю!
— А ну! — И за плечами у меня поднимается незримая тень Бориса Дмитриева.
Леха больше меня ростом на метр, он в пять раз здоровее. "Дядя, достань воробышка", — вот такой Леха. Мне с ним не сладить. Сознаю и понимаю. Но стерпеть "гада" я не могу. А он повторяет:
— Гад!
Признаю: начал я! Это плохо, стыдно и так далее. Извиняюсь! Если мало, прошу еще прощения...
Хотя чего уж так особенно распинаться, если наша драка продолжалась не больше двадцати секунд. На площадке, как привидение, возник вдруг Дир:
— Что случилось, мушкетеры?
— Выясняем отношения, Матвей Семенович, — едва переводя дух, ответил я.
Дир посмотрел на Леху, как бы приглашая его подтвердить сказанное мной.
— Гад ты, Каретников!..
Начать второй раунд не дал мне директор. Оказывается, он здоровенный — вот не думал. Как прихватил руку, как вертанул к лопатке, так я и сел...
А дальше пошло еще хуже.
Врать не буду: в квантовой теории не разбираюсь, но что такое квант, объяснил бы так: это — порция. Сначала ничего нет, нет, нет... А потом ррраз — получай! Таким я это дело ощущаю. И жизнь наша идет, видать, квантами.
 |
Мало мне было того, что случилось с утра, так вечером меня еще и побили. Да-а, в собственном нашем подъезде. Как теперь с запозданием соображаю, свет нарочно погасили. Я шагнул в дверь — темнотища, глаз коли. А тем, кто ждал в подъезде, из темноты на свет вполне все нормально видно было.
Врезали мне очень даже прилично. Кажется, в четыре руки обработали. Кто? Не видел, не знаю. Это на самом деле так, честно! Возможно даже, Леха с Лапочкой потрудились, но могли быть их дружки. Хотя и такой вариант не исключаю: лупили посторонние ребята. Могли, например, перепутать меня с кем-то и дать по ошибке. Конечно, такое мало вероятно, но ведь и не исключено?
Заявился я домой. Морда изукрашена, из носа кровь, сам перемазанный — вполне гожусь, чтобы детей пугать. Мать, как такое увидела, можно сказать, языка лишилась. Но ничего. Дала умыться, молча протянула чистую рубашку и, ни слова не проронив, пошла к телефону. Ну, думаю, сейчас доложит капитану Смирнову: так, мол, и так, только что ввалился, весь в крови, с синяками, делайте с ним что хотите, но оставлять так больше невозможно... Но нет. Слышу, не со Смирновым говорит:
— Георгий, извини, это я. Пожалуйста, приезжай безотлагательно. Сейчас, требуется твое вмешательство. — И положила трубку.
Отец примчался, как по 01. Вид у него был, прямо сказать, перепуганный. Он не привык, чтобы мать коротко разговаривала, так что, небось, черт знает что подумал. Но когда на меня посмотрел, как захохочет:
— Знаменито светишь, мужик! Светофор на въезде в Плоешти, а не мужчина! (Это он на синяки намекал.) А по делу, что случилось?
Ну, я рассказал все по чистой правде. Он слушал, не перебивал, а когда я кончил, спросил:
— Думаешь, Леха с приятелем тебя обмолотили?
— Возможно, но утверждать не могу.
— А ты говорил, помню: "Леха, во-о, парень!" Как же так? Из-за угла "во парни" не нападают... Другой вопрос: за что?
— В милиции я был? Был. Что говорил, они не знают. А если капитан Смирнов их прижучил, могут считать — с моей подачи. За такое стоит выдать. Видишь, как получается. Вроде все сходится, все хорошо, все красиво.
— Не очень, я бы сказал, красиво, но резонно. Что будем дальше делать?
— В каком смысле — будем? Кто?
— Ты, и я тоже,— сказал отец.
— Во всяком случае, тебе в это никак встревать не следует. И пожалуйста, никуда не ходи. Вот если бы мне тот пистолет... — забросил я удочку.
Тут нужно кое-что объяснить.
Года два или три назад отец привез из Австрии пистолет-хлопушку. На вид настоящий кольт, один к одному. Черный, увесистый, а грохает — аж дом трясется! Привез, показал и спрятал. Я спросил тогда еще, для чего ему такая штука. Отец сказал, что на дороге всякое бывает — может, когда пригодится кого пугнуть. Вот теперь я и вспомнил.
— Нет, — сказал отец, — это предложение не проходит. Уж если вести внутреннюю войну, то корректно... Тренируйся, рученьки накачивай, работай с тенью, у зеркала...
Мы посидели еще немного. Он поглядел на часы и охнул: было начало второго! Велел мне ложиться.
— Матери все скажу, что надо. Но беспокойся. И держись!
Что именно он сказал матери, не знаю. На другой день — тишина. Перед школой мама заклеила мне бровь пластырем, сказала, чтобы первоклассники не пугались.
На этом, видать, квант завершился. Все пошло, как шло до того. Утром ать-два — в школу, отсидел, сколько положено уроков, и ать-два — домой... Никаких столкновений — тишь да гладь...
Но с того времени я все время возвращаюсь к ребятам, которых стали показывать по телевизору, — шварцнегерам, не парни, а гора мышц. Начинает такой играть телом — зрелище для обморока. Серьезно!
Наверное, так накачаться — дело ой-ой какое непростое. Болтать легко: хочу, мечтаю... Но чтобы на деле так обрасти мышцами... Сколько железа перетаскать надо, что перетерпеть! Я знаю, как после тренировки в школьном зале болят руки и ноги, если только ты не халтурил, а нагружался на совесть.
Мурад Саидович, когда у него настроение хорошее, всякие спортивные байки нам рассказывает. И каждая его знаменитая история всегда заканчивается примерно так: но он (или она) добежал, упал и умер! Сначала ребята пугались, потом стали посмеиваться, а сейчас грохнутся — и кранты! А вот теперь я начинаю понимать, что старается нам внушить Мурад Саидович. Настоящие победы сами собой не достаются никому. А за самую, самую, самую главную свою победу настоящий человек должен быть готов заплатить даже жизнью. И опять в голову приходят военные герои и Боря и Роза, о которых я прочитал в маминых выписках для музея...
13. Не понимаю, как это случилось, но когда я удирал с классного часа, Димка Аверкин прихватил меня в коридоре и стал показывать какие-то детальки, малюсенькие, как пилюли, блестящие, словно новые монетки, с тараканьими усиками. Из них, по словам Димки, можно такое, такое собрать, что...
Мы потеряли бдительность и были тут же наказаны. В двух шагах от раздевалки классная взяла нас на крючок:
— Куда?
— Хапнуть люфт! — говорит Димка.— В голове звон — кислородное голодание.
— А классный час?
Мне бы промолчать или подключиться к Димке: как глотнем кислорода, так моментом в класс, так дернул черт:
— Опять трепаться?
— Что это значит, Каретников? Классный час существует...
Понятно было, Мария Михайловна готова нам прочитать целую лекцию, но я извинился, перебил ее и начал загибать пальцы:
— Про оформление класса говорили и постановили. Но... ничего не сделали. Раз. Про стенную газету с сентября месяца ля-ля — и никто ничего. Два. Димке мозги полоскали, помощь обещали, а сделали ноль целых и ноль десятых. Три. Так чего же зря терять время на классном часе?
Тут прозвенел звонок. Мария Михайловна скомандовала:
— Довольно разводить демагогию. Марш в класс!
Пришлось обозначить движение к указанной цели. Чирикать дальше было бесполезно. Впрочем, я лично до класса не дошел. Такой у меня характер: если просят, не могу отказать, если велят — нет сил себя заставить и подчиниться. Меня как-то Юрий Павлович из-за этого даже анархистом обозвал. Я, конечно, в точности их программы не знаю, но если анархисты в принципе всякую дисциплину отрицают, то я догадываюсь, на что он намекал. Да, подчиняться мне очень трудно, очень. И неприятно.
Дня через два классная подловила меня на том самом месте, с которого я смылся, и говорит ангольским голосочком:
— Ты, Кирюша, выражаешь свое неудовольствие: и то не так, и это не по тебе, самостоятельности, говоришь, мало. Вот и прояви инициативу. По плану у нас должен быть урок мужества. Организуй встречу с уважаемым человеком, с ветераном войны, чтобы тот пришел, поделился... Остальное — на твое усмотрение! Нужны помощники — привлеки Олю Масленикову, Лешу Волынова. С кем ты еще в хороших отношениях? С Димой Аверкиным? Словом, все-все делай сам, как находишь нужным. Надеюсь на тебя. Договорились?
Надеялась ли она на меня на самом деле, не знаю. Но я действительно говорил, что взрослые всюду влезают, душат любую нашу инициативу, самостоятельно не дают шагу шагнуть. Доказывал: довольно с нас опеки — не маленькие уже! Получалось справедливо. Говорил? Говорил! Теперь давай докажи, что можешь.
— Ладно,— сказал я,— попробуем достать генерала.
 |
Почему я не пообещал ей достать маршала, сам не знаю. Признаться, я не очень представлял себе, где можно достать генерала, как его уговорить поехать в школу... Но с другой стороны, если проводить настоящий урок мужества, то как же без генерала? С этим я вышел из школы и наткнулся на серенького "Жигуленка". А из машины, вижу, глядит на меня Пал Василич, Лехин папаша. Мало, что глядит, еще и пальчиком делает: подойди, мол, сюда. Подхожу. Он распахивает дверку и приглашает сесть. Откровенно скажу: лезть в его машину неохота было, но и как отказаться? Воспитали — перед каждым взрослым виляй хвостом...
Сел.
Папаша молча заводит мотор.
— И далеко поедем? — спрашиваю.
— Не-ет, мне еще Лешку перехватить надо. От школы мы задним ходом откатили метров на сто и встали.
— Ты человек серьезный, Кирилл, — говорит тут Пал Василич, — не то что мой балбес. Надеюсь, ты поймешь меня. Но сначала вот что: о чем тебя в милиции допытывали?
Интересно, с чего бы мне Лехиному папаше давать отчет? Я уже собирался сказать ему, что проще у капитана Смирнова спросить, но Пал Василич как подслушал мои мысли:
— Не хочешь — не рассказывай. Я могу подскочить к Смирнову и выяснить, что называется, непосредственно, но не хочу показывать им излишней заинтересованности, чтобы еще больше не повредить моему дураку сыночку.
— А почему вы Леху так обзываете?
Тут папаша стал его ругать еще больше. И я узнал, что Леха был не только на сомнительные фотографии мастер, а еще прихалтуривал записями для магнитофона. Переписывал пленки и с каждой кассеты, по словам Пал Василича, имел "звонкую копенку" — рубля полтора или чуть больше.
— Под статью "спекуляция" это дело не подходит, но...
— А дурак-то Леха почему — за кассеты?
— Какие кассеты! Ну, позвали тебя в милицию, ну, спрашивают про что-то, так чего — сразу в панику? Если ты никого не зарезал, много не украл, чего дрожать? Вы же, по-моему, проходили: "Моя милиция меня бережет"? А Леха — слабак. Перетрусил, распустил язык... А надо как? Подозреваете? Вот вы и доказывайте, в чем я виноват, по какой статье должен отвечать. Вы меня к стене приприте, а я подумаю, признаваться или подождать... А тебя, Кирилл, Смирнов про стройматериалы спрашивал?
— Чего-чего? Какие еще стройматериалы?
— Да... Лешкины штуки. Лапочка, ну-у, Сашка, в моем гараже паркетные плашки спрятал... Ну ладно, беги, бог с тобой, как любила говорить моя бабушка.
И я побежал добывать генерала для урока мужества. Это была задача номер один.
14. Экспериментальные страницы. Проба пера. Жанр: школьное сочинение. Его цель: понятно и грамотно изложить мысли (точнее, сведения), сообщенные учителем в извлеченные из учебника для получения текущей оценки, желательно не ниже четверки. Тема: "Родина — любовь моя".
Предложенная для самостоятельной работы, сочинения, тема велика и необъятна, как велика и необъятна моя земля, протянувшаяся от Карпат до Тихого океана, от азиатской Кушки до самого Северного полюса. Шестая часть суши! Поэтому я поступлю так: постараюсь в одной капле отразить мир и ощущение всей моей страны.
Есть на карте Родины такая точка — город Можайск, а в десяти верстах от него расположено знаменитое село Бородино. Здесь 26 августа (по старому стилю) 1812 года произошла кровопролитнейшая битва между русскими войсками и французской армией вторжения. Это сражение унесло убитыми и ранеными до 80 тысяч человек из рядов сражавшихся! Подробности исторического события громадной важности художественно и обстоятельно описал знаменитый классик нашей литературы Л.Н. Толстой в своем толстом романе "Война и мир". Поэтому я не стану повторять его, а расскажу о моих исключительно личных, ощущениях и переживаниях, связанных с посещением Бородинского поля.
На экскурсию туда привез нас учитель истории. Конечно, первым делом мы посетили музей Бородинской битвы. В этом не очень большом, давно построенном музее собрано много картин, документов, экспонатов. Они позволяют посетителю представить, как героически дрались русские солдаты Кутузова против французских солдат самого императора Наполеона, покорившего половину Европы! Тут есть и знамена, и образцы разного старого оружия — огнестрельного и холодного, а еще можно подробно разглядеть, где какие части располагались перед битвой, куда они двигались, во что были одеты. Форма разных полков мне показалась очень интересной.
Когда мы все тщательно изучили в самом музее, пошли непосредственно на поле. Мы собственными ногами постояли на Шевардинском редуте, поклонились могилам героев, видели высоту, с которой генерал — фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов следил за движением наполеоновских войск. На батарее Раевского мне посчастливилось выкопать из земли величиной с грецкий орех или чуть больше чугунный шарик — шрапнелину. На память.
Очень трудно передать простыми словами, какие чувства ты испытываешь, когда смотришь на зеленое поле, имеющее столь исключительное историческое значение в судьбе страны и народа. Если же еще вообразить людей, не щадивших себя, чтобы спасти и уберечь землю своих предков от иноземных захватчиков, возникает такое впечатление, как будто у тебя отрастают крылья.
Наверное, в тот день был сильный ветер, а может, и не от костра у меня на глазах наворачивались слезы. Волнение и печаль перемешались и оказывали свое влияние. Мне захотелось побыть одному, и я тихонько отошел от ребят я Юрия Павловича в сторону. Пытался себе представить, как ранним-ранним утром над водами Великого, или Тихого, океана стремительно поднимается его величество солнце и плывет надо всей нашей землей сюда — к Бородинскому полю. И эта громадная земля — от Чукотки и Курил до западных границ — и есть моя Родина... Как выразить счастье ощущать себя частицей этой бесконечности, этого величия.
А теперь, пожалуй, хватит экспериментировать, довольно пробовать перо! Каждому, я думаю, уже, как дважды два ясно: за такое сочинение, если не насажаешь в нем орфографических и грубых синтаксических ошибок, вполне вероятно огрести четверку, если не пятерку. Вопрос: почему? И ответ: написано все очень правильно, как надо. Только не совсем мне понятно, кто постановляет, вот так — надо, так — можно, а так — нет?
Если бы я написал не как "надо", а как на самом деле выглядела наша экскурсия в Бородино, то пришлось бы начать весьма прозаически. В музей мы опоздали часа на полтора; по дороге сломался автобус. Шоферу пришлось менять бензонасос (хорошо, был в запасе!). В результате, когда мы все-таки прибыли, нас обругали: срываете график организованных посещений. После такого "здрасте" галопом протащили по залам музея. Узнать что-либо интересное при предложенном темпе движения, сами понимаете, было не просто. Но кое-что я ухватил. Пожалуй, самое удивительное вот: в 1912 году по случаю столетия Бородинской битвы здесь проводился юбилейный парад. И в нем участвовали старцы из соседнего села Семеновского — живые свидетели Бородинской битвы. Царь наградил их золотыми памятными медалями. Есть легенда, будто в окрестностях Бородина растут травы, способствующие долголетию, и те стодвадцатилетние деды были знатоками-травниками, пользовались особыми настоями и вот дожили.
А вообще — экскурсовод нам попался!.. Во-первых, зануда, а, во-вторых, он так жал на "газ", так летел, что понять его объяснения было почти невозможно. На само поле он нас вообще не повел. "Ваше время вышло!" — сказал он, поглядев на часы. И можно было подумать, что он жутко этому рад — развязался.
Мы пошли на Шевардинский редут с Юрием Павловичем. По дороге и на самом редуте, он, конечно, рассказывал "про дела давно минувших дней", особенно торжественно помянул князя, генерала от инфантерии, участника суворовских походов Петра Ивановича Багратиона, смертельно раненного здесь. Но я никак не мог сосредоточиться: кругом было запустение, ветер шевелил обрывки бумаги, в траве светились осколки бутылок, попадались и консервные банки — гнусные следы туристов. И это на таком месте! Здесь бы все должно блестеть и сверкать — как в церкви. Откуда я знаю про церковь? Бабушка меня водила на Пасху. Служба, честно сказать, мне не понравилась, да я почти ничего и не понял, но порядок в церкви — будьте уверены. И торжественность!
Как получилось, даже не знаю, но я откололся ото всех. Сначала хотел попробовать выкопать из земли еще какую-нибудь шрапнелину на память, но довольно скоро понял - мертвый номер, тогда я побрел по тропинке. Она вела от музея вниз, к оврагу.
Спустился до самого дна. Там в высокой увядшей траве отчетливо лопотал ручей, прозрачный и чистый. Я сел на здоровенную корягу, расслабился по методу доктора Леви и сделал совершенно неожиданное открытие: оказывается, природный и незагаженный ручей имеет запах... воды! Что бы ни писалось в учебниках, чистая вода пахнет, и очень приятно. Сразу моя мысль скакнула в другую сторону. А раньше, когда все реки, все озера и водоемы были прозрачными, ничем не загаженными, как же, наверное, легко дышалось людям?!
Так я и сидел, размышляя о жизни и земле, о людях. Всякие мысли приходили в голову, пока я слушал, как лопочет ручеек на бородинской земле. Возможно, это были как раз те самые правильные мысли и на них следовало строить сочинение "Родина — любовь моя". Только я уверен — уверен на все двести процентов, что за такое "произведение" никто бы четверки не поставил. Не высовывайся! Подумаешь, какой умник выискался! Больно грамотный! Мне даже вспомнился майор из патруля, что сдал меня в милицию как больно грамотного...
Там, на берегу ручейка, меня нашла Оля.
— Тебя все ищут. Юрий Павлович сердится, — сказала Оля.
— Ну и что?
— Ничего. Вставай, поехали...
И
тут Оля действительно поехала. Скат к ручью был глинистый и жутко скользкий,
она нескладно переступила, и ее повезло, потянуло в воду. Еле-еле я
успел ухватить Олю за штанину, с трудом удержался, чтобы не загудеть
следом, перехватил, сгреб в охапку и не сразу вытащил. Пока тащил, чувствую:
что-то торкается мне в руку... Не сразу дошло — это стучало Олино сердце.
Она, понятно, перепугалась, и сердце у нее молотило будь здоров на каких
оборотах.
Вытащил я Олю, держу, чтобы опять не съехала. А она говорит:
— Не надо, Кирюша.
— Чего не надо?
— Обнимать меня...
Эх, Оля-Оля! Да я и не думал ничего.
15. До сих пор я, кажется, не вспомнил, что у Оли есть сестренка Рита. Ей шесть лет теперь; я когда только-только начал ходить к ним в дом, Рита была совсем маленькая — не сразу и заметишь. Напоминала она редиску: щечки красные, башка — ровненьким шариком, на макушечке волосики торчком. Ей нарочно волосики так закалывали — по середине головы. Для чего — не знаю, а получалось смешно.
С Олей мы иногда делали вместе уроки, а иногда я так приходил, когда один, а когда с ребятами. И никто на Риту особого внимания не обращал. Я тоже, хотя она и липла. Подойдет, сунет какую-нибудь свою куклу в руки и ждет. Молча. Но все равно всякому понятно: хочет, чтобы с ней поиграли. Только кому с такой малявкой может быть интересно? Мы и не обращали внимания.
Потом, когда Олин папа оказался в больнице,
получилось так: Олина мама не могла уйти с работы и велела ехать в больницу
Оле, а Оля попросила меня посидеть с Риткой — в тот день ее почему-то
не отвели в детский садик.
Мы остались вдвоем — Рита и я.
Довольно скоро я понял: хоть Рита и малышня, но не стеснительная, не молчаливая, а, наоборот, очень даже разговорчивая. И болтает этот ребенок не только глупости. Например, она каждой своей кукле сочинила биографию. На это же нужно воображение!
Катя — самая большая ее кукла — была цирковой наездницей. Она выступала на Цветном бульваре, упала с зебры, и у нее сломались обе ноги и одна рука. Кате было очень больно. Ее отправили на "скорой помощи" к самому лучшему доктору — к профессору Илизарову. Он ее вылечил в три дня! Но работать в цирке не разрешает. Должны окрепнуть кости после переломов. Все это Рита рассказывала так серьезно, что можно было и поверить. Слушал-слушал я Риту и вдруг подумал: разве это справедливо — смотреть на нее, как на дурочку? Пусть я вдвое выше ее ростом, пусть нахватался всякой всячины из книжек, в школе от ребят, но ее голова работает совсем даже не хуже моей. Не-ет, товарищи дорогие, "маленький человек" вовсе не означает "глупый"!
Для проверки я стал задавать Рите всякие вопросы:
— Знаешь, Рита, куклы, если они даже наездницы в цирке, все-таки игрушки, а что тебе в настоящей, во взаправдашней жизни больше всего нравится?
— Мне много всего нравится. Когда мама улыбается. Когда бабушка к нам приезжает со своим таксом. Когда папа бреется, и машинка у него красиво жужжит. Когда никого нет и тихо-тихо, тоже нравится...
— А почему, когда тихо, нравится? — все-таки это странно, чтобы шестилетний ребенок мечтал о покое.
— Потому что я не люблю, когда кричат, — сказала Рита, поглядела на меня и, видимо, решила, что я не понял. Стала пояснять:
— Не люблю, когда ссорятся, когда друг на друга громко кричат.
Это колоссально! Оказывается, мы — Рита и я — единомышленники! Я тоже обожаю, когда у матери хорошее настроение, когда отец в доме, и тоже терпеть не могу крика, особенно взрослого, на который нам, ребятам, своим криком отвечать не полагается!
Не помню, сколько еще вопросов я задал
Рите. На все она отвечала, можно сказать, на пять с плюсом. Конечно,
я не стал ее сильно хвалить — нельзя же портить ребенка, а про себя
подумал: "Мировая у Оли сестренка!"
И вдруг эта умница спрашивает:
— Кто старше — ты или Оля?
— Никто не старше, мы одинаковые. Ну, если есть разница месяца в два или три, можно не считать — все равно в один год родились. А почему ты спрашиваешь?
— А меня ты старше? Знаю-знаю, старше! Скажи только, на сколько лет?
— Мне скоро будет четырнадцать. Так? А тебе пока шесть. Вот вычти из четырнадцати шесть, что получится? Сколько?
— Вот я и спрашиваю, сколько?
— Эх ты! Восемь. Я старше тебя на восемь лет. Понятно?
— Жалко...
— Почему жалко?
— Мама говорила, хороший муж должен быть на десять лет старше своей жены. Оля не подходит. Я подумала: может, я подойду? Но тоже не получается...
Подумайте, какими глупостями взрослые
могут забивать детям головы! Шестилетнему ребенку мама объясняет, какая
разница в возрасте должна быть между женой и мужем! На что это похоже?!
А нам еще говорят: не болтайте лишнего...
Пришлось мне объяснять Рите. Не дело это — о всякой ерунде думать: старше
муж, младше муж... Есть вещи поважнее, пусть она учтет.
И тут Рита меня наповал сражает:
— Ты, Кирюша, этого не понимаешь — ты же мужчина. А для женщины ничего важнее нет, как хорошо выйти замуж, чтобы сразу и на всю жизнь.
— Да кто тебе голову забивает?
— И мама говорила, и девочки в садике говорили... А ты с нашей Олей целовался?
Меня прямо в жар кинуло. Чуть было не наорал на Ритку. Стал заговаривать ей зубы. А сам не могу понять: а почему мне и в голову не приходило целоваться с Олей? Или я какой-то бесчувственный, а может, просто трус?
Когда домой вернулась Олина мама, она меня очень благодарила: выручил, ну, и все такое... А я решил скорее смыться, чтобы еще раз не встретиться с Олей, хотя не могла же она узнать мои мысли.
Прощаясь, я, сам не знаю почему, сгреб в охапку Риту, поднял, потряс, поцеловал и рванул в двери. А она глянула на меня совсем-совсем как взрослая, насмешливо так улыбнулась и, честное слово, со значением сказала:
— Приходи еще, Кирюша. Я тебя буду ждать.
Странно, позанимался я там часа три с маленьким ребенком, иду домой по той самой улице, по которой уже десять миллионов раз ходил, ничего особенного не произошло, а в голове вроде улей гудит...
И совсем, можно сказать, ни к селу ни к городу приходит на память, что в субботу к маме приходил... как бы назвать? Ну-у, гость. А до этого, еще в начале вечера я почувствовал: что-то у нас в доме не так. Во-первых, мама сразу после работы искупалась, хотя обычно она делает это утром. Во-вторых, переоделась не в брюки и свитер, как всегда, а в платье. Не в самое модняцкое, правда, но из тех, что на работу не носит. В-третьих, насыпала в вазу конфет, в другую положила печенье.
— У нас гости? — спрашиваю.
— В некотором роде да. Ко мне зайдет на часок товарищ.
— Товарищ? К тебе?.. Я — третий лишний?
Нет, по голове мама мне не дала, сдержалась, но я видел — хотела!
Минут через двадцать товарищ явился.
"Товарищ"! Человек с ушами. А больше ничего и не видно.
Мама познакомила нас. Про меня сказала: мой великовозрастный сын, а про него: мой товарищ по работе. Я — твой и он — твой... Что же получается? Оба мы твои! Не-ет, я не согласен и водиться с Товарищем не собираюсь.
Теперь задаю себе вопрос: а почему?
Странно, но ответить не могу. Нельзя же пренебрегать человеком только потому, что у него ослиные уши, кривой нос или неприятно бегающие глазки? Мало ли кто не ослепляет внешностью или, как здорово сказала Мария Михайловна, "в биологической лотерее, к сожалению, не выиграл".
Теоретически я на все сто процентов не прав.
А практически Товарищ мне от-вра-ти-те-лен. И ничего я тут поделать не могу.
Может быть, у меня мелковата душа? Неприятно.
 |
В тот первый вечер мать очень старалась, чтобы ее Товарищу понравилось в нашем доме. Я ей не мешал, вежливо отвечал на вопросы, когда он меня спрашивал, предложил им включить маг, чтобы вечер шел под приятный аккомпанемент, но он сказал: "Лучше не раздваиваться между музыкой и беседой". Тут я чуть-чуть хаманул: вышел из-за стола, сказал, что благодарю за чай, за сахар, за конфеты, за печенье и, особенно, за приятное общество. Сделав такое заявление, я, как воспитанный ребенок, попросил разрешения удалиться, чтобы остающиеся не испытывали никакого неудобства, стеснения, дискомфорта и иных ощущений отрицательного знака.
Мама откровенно смутилась от моих слов, даже покраснела, но все-таки промолчала. Мне ее даже жалко сделалось, но слова уже вылетели...
А Товарищ, хотите верьте, хотите нет, нахально усмехнулся, на морде у него светилась благодарность, и он пожелал мне — гад ползучий! — спокойной ночи. Это в четверть десятого!
Тыщу лет назад мне пришлось сколько-то времени прожить в Малаховке. Там была дача отцовских приятелей, почти родственников. Почему и для чего родители сослали меня в эту Малаховку — я и сейчас не знаю. Очевидно, имелись у них высшие соображения на этот счет. Никакой обиды за эту ссылку я не испытывал и не испытываю, тем более что на даче мне было совсем не кисло: свобода!
Рядом со старым домом, местом моего базирования, стоял заборище метра три ростом, поверху — стальные шипы! Для чего такая ограда была сооружена, что защищала, я понятия не имел и очень удивился, когда прочитал на медной дощечке, привернутой к калитке, что за забором живет доктор... Фамилию боюсь перепутать, похоже, немецкая была фамилия и начиналась на букву "Р".
Странно все-таки: доктор — и от людей отгородился?
Рядом с табличкой белела кнопка звонка. Один раз я даже ткнул в нее и, отбежав, спрятался: что будет? Но ничего не случилось. Калитка просто не распахнулась.
За забором притаилось что-то непонятное. Рядом с тайной я балдею и оставаться в покое не могу. Вооружившись бельевой веревкой, старым театральным биноклем с выщербленными перламутровыми пластинами отделки, я залезаю на елку. Елка стояла на "нашей" территории, близко к загадочному участку, так что я мог рассчитывать кое на что. С трудом поднялся до верхушки, привязал себя к стволу, навел бинокль. Вокруг бревенчатого дома густо — густо росли какие-то кудрявые деревца, сверху они, казалось, накрыты зеленым сплошным плющом.
Сразу мысль — маскировочная сеть?
Факт!
Вот
и все, что я узнал в первой разведке. Можно сказать, почти ничего не
узнал. И тогда я надолго залег у таинственного забора, ловил каждый
шорох оттуда, старался разобрать каждый случайный звук, чтобы понять,
что же там происходит.
Дом был обитаем: время от времени в нем хлопали дверьми. За забором
жил не один человек. Иногда я улавливал обрывки речи, слышал отдельные
слова, их произносили разные голоса. Однажды до меня долетел тонкий
плач — женский или детский. И постоянно слышно было, как хрипит старый
патефон. Чаще всего мягкий баритон исполнял: "Нет-нет, не добра
та ночь, коль гонит все мысли прочь..." Таинственность нагнеталась,
я просто погибал от любопытства: что же за всем этим?
Решение пришло совершенно неожиданно: сделаю подкоп! Для чего и зачем, я и не подумал уточнить, а сразу же энергично принялся за дело. Как крот, углублялся я в землю. Работа оказалась не такой легкой: песок осыпался, приходилось крепить грунт, кроме того, желтый песок, выброшенный на поверхность, был слишком заметен на зеленом фоне мха. Приходилось его относить подальше, развеивать. Дело шло медленно. Но все-таки я докопался. Выход из туннеля пришелся за сараем, в темном и, извиняюсь, довольно вонючем месте. Но с точки зрения тактики это была удача: здесь едва ли кто мог обнаружить мой лаз. К сожалению, я мало что видел из своего подземелья. Не помогал и бинокль.
Хочу высказаться тут по одному поводу. На всякий случай. Дрожать и не ползти — трусость, а вот дрожать, но все равно ползти — это совсем наоборот. Так вот, я дрожал и полз. В конце концов, добрался до угла сарая, осторожно приподнял голову, осмотрелся.
То, что я увидел, вообразить невозможно!
 |
Рядом с козлами, на которых пилят дрова, сидел мальчишка, на вид лет двенадцати, худенький, в синих стираных трусах, в клетчатой рубашке. И у него на шее был надет... строгий ошейник. Да-а, собачий! От ошейника тянулась цепь к кольцу, ввернутому в колоду. Цепь была заперта на большой замок.
А в доме громко хрипела пластинка: "Нет-нет, не добра та ночь..."
Человек на цепи... Не в кино, а рядом! Что я должен был делать? Во всяком случае, не смотреть же просто так. Я тихонечко посвистел, и парень услышал: он сразу насторожился и завертел головой.
— Эй, парень, говори быстро, чего надо? Помогу... Но тот молчал и только показывал осторожно, рукой доказывал: сматывайся, мол, чеши отсюда, пока не поздно!
— Как тебя звать? — зачем-то прошептал я, хотя, если подумать, на что мне было его имя?
Он не ответил и снова показал рукой: смывайся!
А дальше я даже не понял, что случилось. Я вдруг отделился от земли, очутился в воздухе, мимо поплыли курчавенькие деревца, плотно окружавшие, как я раньше определил, дом. К моему лицу стал придвигаться забор, потом что-то чавкнуло, и часть забора будто выломилась — это как я сообразил, открылась калитка, и две усыпанные рыжими веснушками ручищи придали мне очень даже приличное ускорение. Кто вытряхнул меня с докторского участка, я так и не сумел понять. Но раз были руки, был и хозяин у них...
Сначала я немного посидел в пыли, приходя в себя, а потом встал на задние лапы и захромал на дачу. Настроение? Ну, сами понимаете, какое может быть настроение, если тебя вышвырнули, как нашкодившего кота, за ворота. Но еще хуже было другое — человек на цепи. Пожалуй, это было самое ужасное переживание, которое я испытал за всю жизнь. Тайна так и осталась тайной. И теперь, спустя два года, я нисколько не приблизился к ее раскрытию.
С этими мыслями я улегся, лежал и думал.
"Нет-нет, не добра та ночь..." Выключиться и заснуть долго
не удавалось.
Вытянувшись на спине, я уговаривал себя: "Рука тяжелеет. Правая
рука делается горячей, она тяжелеет. Я расслаблен, мне хорошо..."
Все делал по науке, а не помогало.
"Желтый песок рассыпается по темно-зеленому мху...
Желтизна просвечивает сквозь зеленую шерстку.
В туннеле сыровато, пахнет могилой...
Шуршит, осыпается песок...
"Левая рука тяжелеет. Я расслаблен, мне хорошо..."
Я заснул.
16. В школу я хожу самым быстрым шагом. Тренировка все-таки! А тут тащился еле-еле. С недосыпу, наверное, да и настроение от вчерашнего вечера оставалось наикислейшее. Оснований, пожалуй, серьезных и не было, а все-таки на мозг что-то давило.
Потом звонки, уроки... Все вроде стало приходить к некоторой средней постоянной.
Началась география, началась самым нормальным образом. Герман Станиславович рассказывал, кто слушал, кто делал только вид, Димка — так просто пялил глаза в окошко, как будто решал: улетать ему или малость подождать?
Меня преследовали странные мысли.
Появились они ночью. Сначала мне снились какие-то ужасы: вроде кто-то
волочет меня на виселицу. Кругом тропическая природа, красота, люди
гуляют, смеются, и никто не обращает внимания на происходящее. Что я
такого сделал, почему меня должны были повесить — ничего этого я не
знаю и не могу выяснить... А вокруг звучит скачущая музыка. В оркестре
сильная группа ударных... Потом начали противно кричать попугаи, и меня
что-то стиснуло, да так сильно, что я захрипел и проснулся. Сел в кровати,
ничего толком не могу понять. Сердце колотится как сумасшедшее, лоб
мокрый. До меня не сразу дошло, что голубоватый четырехугольник, перечеркнутый
темным крестом, — окно. Откинувшись на подушку, я медленно приходил
в себя. И тут закопошилась черная мыслишка: "А умирать-то страшно...
Почему это так устроено на свете — все обязательно умирают? И если с
этим ничего нельзя поделать, тогда для чего вообще человеку жить?"
Вот какие неожиданные вопросы будто пропечатывались в мозгу. Даже не
сами вопросы — одно пугающее слово "смерть"...
С наступлением дня ночные страхи как будто испарялись, во всяком случае,
так нахально не давили на черепок, но где-то на самом нижнем этаже сознания
они копошились и время от времени вроде бы выключали меня из окружающей
обстановки. Вот и теперь, на уроке, когда я вдруг услышал: "Каретников!",
никак не мог сообразить, чего от меня хочет учитель. Выгадывая время,
на всякий случай я изобразил легкую улыбку: весь к вашим услугам (совершенно
как тот гнусный официант в ресторане), поднялся с места... К счастью,
я расслышал, как Леха шипит: "Колумб, Колумб!..", я естественно
предположил — надо рассказывать о великом открытии. Тут нет проблемы.
— В 1416 году, — почесал я, — будущий Генрих Мореплаватель, тогда еще только инфант, отправил первую морскую экспедицию в просторы мирового океана. С этого дня и до самой его смерти в 1460 году уходили португальские корабли искать путь в Индию. Генрих Мореплаватель заставил людей преодолеть врожденный страх перед океаном, настойчиво готовя флот к глобальным открытиям...
Говорил я уверенно, дат не путал, но в классе сделалось подозрительно тихо. Глянул мельком на Германа Станиславовича. Как будто ничего такого на его лице не читалось. И все-таки я на всякий случай чуточку сократился.
— Надо сказать, в то время Индиями называли большую часть Азии, собственно Индию и Бирму, Китай и Японию, Молуккские острова, Индонезию и даже Эфиопию. Говоря об Индиях, Колумб имел в виду в первую очередь таинственный остров Сипангу, то есть Японию, о котором упоминал Марко Поло...
Тишина оставалась подозрительной. Я сократился еще раз. Нате вам Колумба в чистом виде и успокойтесь!
— Испанская корона заключила с Колумбом специальный договор. Он получил три каравеллы и письмо к китайскому императору. В августе 1492 года "Санта-Мария", "Пинта", и "Нинья" вышли в открытое море и взяли курс на Канарские острова...
— Садись, Каретников. На вопрос отвечает Масленникова.
— Открытие Колумба, как и другие открытия той эпохи, связаны с борьбой великих держав за раздел мира, за мировое господство и в первую очередь за колонии, которые были тогда неограниченным источником богатства Европы,— сказала Оля и замолчала.
— Хорошо, Масленикова. Садись. Надо слушать, Каретников, это — во-первых, и, во-вторых, отвечать следует не вообще, не вокруг да около, а выкладывать суть дела. О чем ты мечтаешь? Я ведь спросил: что послужило причиной первых дальних плаваний Колумба. Что? А тебя повело на историю великих морских открытий средних веков. Так о чем, Каретников, ты мечтаешь?
— Честно сказать, — сам того не ожидая, сказал я, — не дает покоя одна мысль: на что вся эта волынка, когда чуть раньше или чуть позже человек все одно помирает?
Ребята засмеялись, а Герман Станиславович пристально, вроде даже с подозрением, поглядел на меня — дескать, все ли у тебя дома, парень? И велел садиться.
Потом, после уроков, он подошел ко мне в вестибюле и совсем не учительским голосом сказал:
— Зря ты, Кирилл, в пессимизм ударяешься.
Кто родился — помрет. Закон природы. Только расстраиваться по этому
поводу нечего. Природа-матушка не только мудра, она еще и хи-итрая!
Ужас смерти, что охватывает нас в отроческие годы — ах, конец... ах,
черная дыра... ах, холод и бесследность исчезновения... — она, матушка,
видно, придумала, чтобы мы дороже ценили жизнь, береглись, не творили
лишних глупостей. С годами этот страх утрачивает свою остроту, отступает
и перестает мучить. Как свидетельствуют многие источники, очень старые
люди испытывают даже необременительное, медленно нарастающее утомление,
и смерть в их сознании приобретает сходство с обычным сном, с желанием
отдыха, покоя... Надо, Кирилл, взять себя в руки и спокойно пережить
эту трудную полосу, не расслабляясь, не теряя над собой контроля.
Здорово он говорил.
Вообще я Германа Станиславовича уважаю: он всегда дельно выступает. И шутки понимает, и на грубости с нашей стороны никогда не нарывается. Но сейчас я думал про другое. Сказать: перебори себя, перешагни через страх или лень, привычку врать — просто! А как одолеть на деле хоть тот же страх или лень?
Вот в таком духе я и высказался. За добрые рекомендации спасибо, а где раздобыть инструкции по их выполнению, Герман Станиславович?
— Ты когда-нибудь думал, Кирилл, чем плохой учитель отличается от хорошего?
— Как? Разве у нас в школах бывают плохие учителя? Что вы такое говорите, Герман Станиславович?! В жизни ничего подобного еще не слыхал...
— Не валяй дурака, не надо. Плохой учитель требует, требует, требует... Он спрограммирован, как кнут,— подгонять, наказывать. А хороший учитель незаметно кормит ученика похлебкой знаний, да так хитро кормит — чем больше ешь, тем сильнее есть хочется. Я много думаю: как правильнее учить, как лучше воспитывать? И странные мысли приходят в голову: мы с утра до ночи боремся с какими-нибудь недостатками — с враньем, ленью, с трусостью, разболтанностью или воровством... Верно? А может, начинать надо бы с другого конца — показывать на собственном примере, что такое трудолюбие, храбрость, щедрость?.. Что более действенно: выкорчевывание или вживление? Любопытно, что ты по этому поводу скажешь?
Тут, наверное, совсем не к месту я рассказал про Шизю. Как сперва сам сделал, а потом получил от отца, можно сказать, фирменное чучело, как я теперь тренируюсь, о чем при этом думаю. Говорил я плохо, путался и почему-то волновался. Но Герман Станиславович слушал и поддакивал:
— Очень занятно, любопытно...
Мы уже давно вышли из школы и тихонько шагали вдоль улицы, как будто не ученик с учителем, а так — приятели. Вдруг он как захохочет! Я даже вздрогнул. С чего бы?
— А можешь вообразить Шизю в школе? Сделать сменную маску: одну надел — я, другую — Юрий Павлович или сам Матвей Семенович... Кто кого хочет, тот того и валтузит. Представляешь?!
— Учиться стало бы некогда, — сказал я, не особенно задумываясь, — очередь бы стояла. Наверняка пришлось бы талончики ввести.
— Ты серьезно? Ты действительно считаешь — мы так невозможно плохи, что только и остается бить?
Ну, лопни мои глаза, если я хотел обидеть хорошего человека! Надо было срочно снимать напряжение, заглаживать неловкость, и я сказал:
— Мы ведь тоже не ангелы, Герман Станиславович.
— Великолепно, Каретников! Вы — тоже! Ну, с тобой не заскучаешь, Кирилл. Теперь я начинаю, наконец, усваивать, почему тебя прозвали Вундеркиндом: ты и есть настоящее чудо природы!
Мы расстались на углу улицы Горького.
Говорить, что в нашей школе все совсем плохо — вранье! Привыкаешь к ребятам, да и учителя попадаются ничего. А если повезет, то и вовсе как Мурад Саидович или Герман Станиславович, например. Но как к школе ни привыкай, как ни мирись, а все равно вопросы остаются. Почему у нас запах, как на вокзале? Для чего дурацкие порядки: не бегай, не прыгай, в раздевалку строем? Кому нужна форма? Что за смысл орать на ребят? Какая польза от вранья и притворства на всех сборах и разных собраниях? Почему на большинстве уроков смертельно скучно? Как спастись от слов? Все только и знают — говорить, говорить, говорить...
Мне неизвестно, кому принадлежит честь изобретения слова "деловитость", но знаю, что в нашей школе процветает дикая "болтовнятость". И некого спросить, что тут можно сделать, как спастись?..
Лехе да и Димке, наверное, скорее всего, на школьные дела плевать. Они образование закончат, знают, куда двигать дальше, держат в голове, и никаких проблем! А меня все окружающее цепляет почему-то...
17. Мама спрашивает, почему я такой невеселый и задумчивый? Как отвечать? Сказать: "Я мыслю — значит, я существую..."? Или: "Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп..."? Но не для моей матери такое остроумие. Она запросто может и на свой счет отнести, а тогда сразу заведется.
Странный народ взрослые — обожают задавать нам безответные вопросы. Взять хоть маму. Она не только меня донимает такими "почему" и "отчего", она может позвонить своей матери (учтите, бабушке, правда, еще не сто лет, но близко) и поинтересоваться бодренько: "Как делишки?"
Когда слышу, на стенку лезть хочется, прямо бешусь!
Бабушкины делишки ее волнуют! Или бабушка в мелочной лавке торгует? Комбинации с жульем проворачивает? Фарцует? Делишки! Юмор и сатира чистой воды.
Впрочем, на этот раз мне повезло: не успел я ничего ответить — зазвонил телефон. Зазвонил, как взорвался. Мама вздрогнула даже, подняла трубку и тут же сообщила самым противным изо всех своих голосов:
— Кирилл, тебя! Дама.
Тоже, скажу, привычка: стоит позвонить девчонке — хотя чего тут особенного? — у мамы даже голос меняется. Сами взрослые не одобряют, когда в школе между девчонками и мальчишками конфликты и все такое возникает, а сами нас подначивают.
— Да! — рявкнул я трубку. — Каретников на проводе!
— Гы-ы, ты на проводе? А я на табуретке сижу. Это Рита. Здравствуй. Я сама набирала номер и сама попала к тебе, Кирюша. Ты меня узнал?
— Ясно, — сказал я и чуть не ляпнул: "Как делишки?"
— Кирюша, я звоню за Олю. Она велела узнать, что вам задали по-немецки. Ты говори, я буду повторять, а Оля запишет. Хорошо?
— Хорошо, только я что-то не понимаю: почему она сама не может? Больная?
— У нее только уши больные. Распухли... Ну чего ты толкаешься — я правду говорю!.. Кирюша, это я Ольке, а не тебе... Вот и скажу, и скажу... ей уши прокололи! Для сережек.
До меня не сразу доходит: Оле прокололи уши, чтобы она носила серьги.
А для чего люди нацепляют на себя кольца, браслеты, бусы и эти самые серьги? Ну, дикари — другое дело: они голые и по украшениям могут только и судить, кто есть кто.
Я рассказал Рите, что задали по немецкому, она все добросовестно повторила и спрашивает:
— Кирюша, а ты Ольку в сережках будешь еще больше любить?
— Сережки совершенно ни при чем, Рита.
— А можно мне ее позлить?
— Это ваше внутрисемейное дело.
— Значит, ты не против. Скажи, Кирюша, а кто тебе больше нравится — наша Оля или я?
— Не болтай, пожалуйста, всякую ерунду.
— Так и знала. Все-все большие так: молчи, не мешай, не говори глупостей...
Смейтесь надо мной сколько хотите, но, когда я это услышал, меня аж в жар бросило. Может, только тут я понял, что это значит — сгорать со стыда. Я сгорал! И чтобы как-то хоть немного исправить положение, заорал в трубку:
— Не обижайся, Риточка, и прости меня! Я люблю тебя больше всех на свете! — и сразу повесил трубку.
— Новая пассия? — поинтересовалась мама. — Что-то никакой Риточки до сих пор вроде не было?.. Новое имя, да?
— Между прочим, я и сейчас не стремился сообщать тебе это имя, — вот честное слово, совершенно не хотел я хамить и цепляться к матери, но сама она дала повод. — Тебе что не нравится само имя или пальма первенства, которую я отдал Рите?
— Не нравишься мне, главным образом, ты, Кирилл. То от тебя слова не добиться — тонешь в своих гениальных мыслях, то позволяешь себе черт знает что, не следишь за своим языком, за выражением лица, дерзишь мне, а кстати сказать, и не только мне...
Ну, это... это было уже слишком!
— Если ты имеешь в виду Товарища по работе, не скрываю — целоваться с этим типом я не собираюсь. Подожди! Я знаю, что ты хочешь сказать. Он мне со своими ушами — во! — И я полосанул себя ладонью по горлу — вроде хотел зарезаться. Мать пыталась мне возразить, но я не давал себя перебить:
— Проколи себе уши, повесь голубые серьги! Ты же говоришь: "Ах, голубые камушки! Ах, бирюза — мой цвет..." Вот пусть Товарищ и всхлипывает с тобой вместе. А мне позвольте выйти вон?!
Тут я скомандовал, как Мурад Саидович
на физкультуре: "Кру-у-угом!", повернулся на левой пятке и
правом носке, заорал истошным голосом: "Ша-а-агом ма-арш!"
— и, под собственного сочинения марш, исполняемый губами, затопал к
двери.
Удивительно, мать на этот раз не раскричалась. Вообще вдогонку за мной
полетело одно только слово — злой!
Почему же я злой? Чем? И кому от меня плохо? Сама развелась с отцом и считает, что я порчу ей жизнь... Интересно! И еще спрашивает, почему я невеселый, о чем думаю?.. А как тут не думать, как?..
Увидел я его издалека. И первая подлая мысль была — смотаться! Но вовремя сообразил: он меня тоже увидел. Если я рвану когти, Сашка Лапочка подумает, что я его испугался. А чего бояться? Совсем я его не боюсь. Даже ни капли... Противно с таким иметь дело, а так — пожалуйста.
 |
Не знаю почему, но я люблю читать про авиацию, про воздушные бои старых самолетов. Раньше в авиации было вообще много привлекательного: спортивность, личное мужество как норма поведения, быстрота принятия решений... Очень важной считалась в старое время атака на встречных курсах. Она называлась лобовой. Побеждал обыкновенно тот, кто дольше не сворачивал при сближении.
Подумалось: "Сашка Лапочка и я вышли на лобовую". Велел себе: "Не сворачивать!" И не свернул.
— Привет, Кирюха! Не узнаешь, что ли, хмырь? Не рад...
— А чего мне умирать от счастья? Меньше бы наплел капитану Смирнову, так, может, я и порадовался бы.
— Все мусор! Со следа сводил твоего Смирнова. Только зря. Он сам отвалил, как Лехин пахан накололся. Меня предупредили, расписаться заставили, и концы...
А Лехин пахан — кусок. Помнишь, как он про миникоммунизм толкал речь: "Каждый должен себе построить полнейшее изобилие..."
Только теперь до меня дошло: а Сашка-то не один, рядом маячила девчонка. Вроде обыкновенная, только раскраска — я тебе скажу! Глаза в синем, брови зачернены, губы красные, на щеках тоже пятна намалеваны. Но самое чудное: в одном ухе две серьги, а в другом пусто. Чистое другое ухо.
Она заметила, что я ее разглядываю, отшагнула от Сашки, покрутилась, позвенела браслетами на руке и спрашивает с ухмылочкой:
— Ну как, произвожу?
Мне почему-то вспомнилось, как говорил отец: "Главное — не терять чувство юмора, особенно в глупых ситуациях". Поэтому я сперва улыбнулся этой раскрашенной обезьяне, а потом ввернул любимое словечко Лехиного папаши:
— Потрясный товар! А помыть — вообще цены не будет! На месте Сашки я бы пропустил тебя через стиральную машину, хорошо бы через "Вятку"...
— Но-но-но! — забормотал вдруг Сашка.
— Поосторожнее, хмырь. Я таких шуток над моими девочками не понимаю!
И он стал надуваться, смешно пыжиться — ну-у индюк, чистый индюк!
Пока он так вспузыривался, я успел понять: а ведь он — враг. Точно. И даже не мой личный, а всех, кто нормально работает, кто живет по правде и хлопочет не только о собственном брюхе. Кажется, еще в самом начале знакомства Сашка распространялся: человечество, мол, делится на умных и дураков. Дураки вкалывают, ишачат, горбатят, тянут лямку, а умные вертятся, комбинируют и живут по способностям... Едва ли он сам сочинил эту "философию", скорее, просто повторял чужие "идеи", но повторял с откровенным и нескрываемым удовольствием.
Можно не сомневаться: себя Сашка относил, естественно, к разряду умных. Теперь и Лехиного папашу, изображая пострадавшим, не осуждал, скорее, сочувствовал ему...
А девчонка?
Тоже хороша! Лишь бы ото всех отличаться. Вот на что ей две серьги в одном ухе? Раскрасилась попугаем и думает, весь свет умирает от зависти, когда глядит... А в глазах невесомость.
Пока я тут все это написал, порядочно
времени прошло, а в скверике мысли только мелькнули и сразу: "У-у,
морды!"
Помогай, Шизя! И я со всего размаху хлестанул Сашку по физиономии. На,
паразит! Держи на память...
Он такого не ожидал. Да, по правде говоря, я и сам не думал, что смогу. И получилось прямо по Суворову: удивил — победил! Сашка со своей девчонкой на буксире поспешно смылся.
Да, когда бы не Шизя, сроду мне на такое не отважиться. Во-первых, я никогда не любил и не люблю драться: унизительно одолевать человека, хоть и паршивенького, кулаком; во-вторых, я еще и потому избегаю рукопашных выяснений отношений, что постоянно сомневаюсь, смогу или не смогу?
"Покидая зал заседаний", Сашка Лапочка, хотя я спешил, успел мне пообещать плохой жизни в самом ближайшем будущем. Ну что ж, поживем — поглядим.
А пока еще я стоял в скверике, увидел: идет мальчишка, несет полиэтиленовый пакет, в нем золотые рыбки плавают. Важно так шевелят плавниками, вроде удивляются, как это им удается лететь в своем пузырике над землей. Им же точно должно казаться: летим! И тут горе — аквариумист разевает рот и шлепается на ровном месте. Пакет — хрясть! Вода вместе с рыбками вытекает на землю.
Еще чуть-чуть — и я бы загудел в пруд,
когда набирал воду в пакет этого раззявы. Но как-то все-таки удержался
— и галопом наверх. Мешая друг другу, мы поспешно собрали рыбок и засадили
их обратно в пакет. Вода была мутная, с илом и грязью, не очень и разглядеть,
как они там, золотохвостые, но, кажется, все благополучно поплыли...
Говорят: как рыба в воде... Это означает — превосходно, лучше не выдумаешь!
Но вода-то бывает разная. Этим рыбкам особенно не позавидуешь.
А кому вообще стоит завидовать?
Ежику понятно — зависть считается не самым замечательным качеством. Мама сказала бы: завидовать — стыдно; классная: это недостойное чувство!.. Но на самом деле все кому-нибудь или чему-нибудь обязательно завидуют, только кто умнее — скрывает, а кто глупее — не стесняется открыто говорить.
"Мне бы такой портрет, как у Негоды... Она в "Маленькой Вере" играла", — запросто выдает толстая Клавка и щурится, как кошка.
Конечно, Коротеева так прямо не скажет
— она все-таки не только приветствия шпарить умеет, но и соображает
маленько. Только я уверен: и она какой-то кинозвезде или другой знаменитости
дико завидует. Не сомневайтесь!
Иногда я думаю: вот все шумят — завидовать плохо, завидовать плохо,
а сами при этом исподтишка помирают от зависти. Так что хуже — говорить
одно, а думать совсем другое или честно завидовать?
Как-то я отца на эту тему стал выпытывать, так он, секунды не думая, отрубил:
— Оба хуже! Что первый вариант, что второй.
Неужели он на самом деле никому, никогда и ни в чем не позавидовал? Даже не верится. Хотя я знаю: папа врать не станет. Лично я не могу не завидовать тем, кто свободно, без колебаний может вступать в контакт с чужими людьми, легко выступать на собраниях, острить в компании... Меня считают бойким малым, иногда поднимают выше — в нахалы! И никто не догадывается, как на самом деле мне бывает трудно разевать рот на людях, натягивать на себя маску затейника. Честно признаться — так лучше всего я себя чувствую с Ритой: в разговоре, в общении и когда мы молчим тоже...
18. С тех пор, как Товарищ по работе хлопает своими ушами в нашем доме, я почти не вижу отца. Папа звонит, предлагает встретиться, но я вру: занят в школе, иду вроде куда-нибудь с ребятами и так далее. И это не потому, что не хочу его видеть, просто мне боязно — вдруг он спросит: что дома, как мама?.. Могу не удержаться и ляпнуть, а это ни к чему. Хотя, если серьезно подумать — что ему гость нашего дома, раз с матерью разошелся, они же теперь друг другу никто. Да и мать вроде за ушастого не собирается выходить. А приходит Товарищ для общения...
Замучили меня противоречия! В конце концов
я сам позвонил отцу и предложил сходить на стадион. Там большой гимнастический
праздник устраивали. Участвовали одни звезды. Отец сказал: "Можно",
и мы увиделись.
Про дом папа меня не спрашивал, говорили о всяком разном, и скоро я
совсем успокоился и тогда спросил:
— А для чего люди, когда женятся, кольца напяливают?
Отец усмехнулся и стал говорить. Получалось — традиция, для крепости семейных уз... Но никакие кольца, печати в паспортах, по его мнению, на самом деле хорошей жизни не гарантируют.
Тут я спросил: а как он считает, что может помочь?
И отец ответил:
— Теперь, Кирюша, я даже точно и не знаю. Раньше мне казалось, если один человек уважает другого, доверяет ему, старается во всем помогать и переживает за него, как за себя, даже больше, чем за себя, — все в порядке! Но чего-то, сынок, я или не понял, или, возможно, упустил... Могу только сказать: в единственном числе — плохая жизнь. Возвращаешься с работы домой и сам спрашиваешь себя: куда иду, для чего? И вообще...
Мне показалось, он хочет сказать еще что-то, но разговор оборвался.
Можно ли вообразить, что обозначает словечко
"молчек?" Это Товарищ по работе выдумал так ко мне обращаться
— молодой человек! То есть я. А в сокращении ему, наверное, кажется
ироничнее! А еще он изводит меня такими финтами:
— Если не возражаете, молчек, я позволю себе задать вам вопрос следующего
содержания...
О чем он спрашивает после такого захода,
значения не имеет. Мои ответы едва ли его интересуют — он слушает только
себя. А задает вопросы, чтобы поговорить, покрасоваться, погусарить...
Почему мама не замечает всей его противности? Не понимаю.
На днях пришел раньше обычного, мама с работы не успела вернуться. Досталось
мне с ним нос в нос сидеть.
— Ввиду отсутствия Анны Сергеевны, что прискорбно, не могу ли я, молчек, оказать вам посильную помощь в приготовлении уроков?
— Если подскажете, какие металлы тонут в ртути, будет в самый раз, — сказал я, совершенно уверенный: сейчас заплывет!
— Осмий, иридий, платина, золото тонут, — не моргнув глазом перечислил он, — а все остальные всплывают. Надо же! И не поперхнулся.
— Разве вы не гуманитарий? — глупо хмыкнув, поинтересовался я.
— А по-вашему, молчек, гуманитарию с высшим образованием и ученой степенью можно, в смысле позволительно, не разбираться в курсе физики шестого класса? Странный у вас взгляд на образование.
Пришлось признать, 1:0 в его пользу!
Слава богу, пришла мама, сразу захлопотала с угощением, а я тихонько слинял, чтобы им не мешать и самому не заводиться. Вероятно, Товарищ и на самом деле человек образованный. И не грубый, к маме внимательно относится, но я все равно не могу его видеть.
Чем он занимается, точно я не знаю, вроде колупает с какого-то края психологию. Почему мне так кажется? Был случай, забыл он какие-то листочки со своими записями. Понятно, я нос туда, извиняюсь, сунул. Мелким-мелким почерком, про такое писание говорят — бисерное, там было зафиксировано:
"Наблюдения могут быть случайными, одноразовыми, систематическими. Наблюдения могут приводить к озарениям, но тут очень велик элемент случайности, и могут идти, так сказать, планово, превращаясь в систему, то есть в опыты. Решающий успех в последнем случае приносит трудолюбие, терпение, способности. Успех, приносимый озарением, невозможен без гениальности или, на худой конец, без большого таланта".
Текстик этот я, понятно, запомнил. Думаю, по существу тут возразить нечего, все правильно. Только писал эти бисерные строчечки зануда. Нет, не так: "зануда", а еще лучше будет вот так: "ЗАНУДА"!!!
Бабушка мне сто тысяч раз говорила, что
я больно легко сужу о людях. И в хорошую, и особенно в плохую сторону
запросто преувеличиваю качества окружающих. Надо, мол, сперва пуд соли
с человеком съесть и только тогда решать, какой он.
Прикинем. Пуд — шестнадцать кэгэ. Положим, на день — граммов по тридцать.
Не много? Тогда выходит, чтобы осилить пуд соли, надо года полтора затратить!
Кто знает, возможно, бабушка и правильно говорит.
Мы еще в третьем, кажется, классе учились, когда я пошел после уроков к Мише Вольнову. Он обещал дать какой-то замечательный клей. Мокрую бумагу им вроде можно было склеивать, а мы как раз все с ума сходили — делали маски из папье-маше, готовились к новогоднему карнавалу.
Идем по улице нормально, заходим в парадное тоже нормально, ничего не скажу, поднимаемся на второй этаж. Тут Мишка вытаскивает спички, достает одну из коробки и... тык ее в замочную скважину. Оглядывается и вторую — тык, а кончик обламывает.
— Обладлел? — спрашиваю.
А он:
— Бежим.
 |
Потом объяснил: он мстит соседям! За что, я не смог понять, очень уж сложная велась война — родители против родителей, дети против детей, а Мишина старшая сестра Марианна, как он сам выразился, "всем назло крутила любовь с их старшим сыном Яшкой!" Кажется, с этого все и началось.
Ясное дело: запихивать спички, портить
замок — гадство. Какие на этот счет могут быть сомнения? Но в остальном-то
надо бы все-таки разобраться. Сам я вредничать не люблю, но иногда все-таки
хочется сотворить бяку. Когда-то я прикнопил Ленкин подол к скамейке
— хвать — и чуть из юбки не вылетела. Ржон стоял на сто километров вокруг.
— Дурак ты, Кирка! — И не Ленка, специалистка по речам, это сказала,
нет, Оля! (Между прочим, единственный раз в жизни меня обозвала.)
И веселиться сразу расхотелось.
Непросто в жизни разбираться, непросто говорить: "Буду делать хорошо и не буду плохо", если только всерьез.
19. Несколько дней Леха в школе не появлялся. Потом пришел, сел за свою парту. Сидел тихо, заплывал, когда вызывали, но выглядел нормально, будто ничего особенного не случилось. Но после занятий дождался меня за углом и спросил без выпендривания:
— Больше со мной контачить не будешь? Отца под суд гонят!
По правде, я даже растерялся. Первый случай в жизни: знал человека, нравился он больше или меньше, не так важно, и вот, оказывается, этот человек почти преступник... В голове даже не укладывается. Но ответил я сразу:
— Почему не буду? Отец отцом, ты сам по себе.
Леха понял, видать, больше, чем я хотел, скривился и говорит:
— Отец пока дома. Таскают его, следствие идет, но еще не сажают, хотя он уверен — посадят. Лет на пять. А вообще он вроде не очень переживает, хоть и суетится, кому-то в телефон кричит: "Любишь кататься — люби и саночки возить! Диалектика, старина..." Но я не верю, что ему совсем не страшно. Знаешь, Кирюха, чему удивляюсь: жили-жили, кое-что я чувствовал — не все идет, как надо, но мне это, скорее, нравилось даже — всего навалом, предки не достают... Красота!
— Скажи, Леха, — спросил я, — твоего отца отец кем был?
— Дедушка Вася? Почему был? Он есть. Живет в Жаворонках, числится за колхозом, что-то сторожит. А ты почему спрашиваешь?
— Просто интересно. Нас учат — сын купца старается хапнуть больше. Природа, мол. А почему же крестьянский сын, извиняюсь, тоже имеет... ну, как бы сказать?.. склонность?
— Не знаю, — как отрубил Леха. — Я вообще сейчас туго соображаю. Раньше отец частенько поддавал, теперь — ни-ни. Мать за него норму выполняет! Вчера смотрю — как-то она странно, бочком-бочком передвигается. И заметила, что я на нее гляжу. "Да, Лешенька, точно, сыночек, — говорит, — под муховочкой я. А что теперь прикажешь? Не обижайся..."
Мне живо представляется Лехина мать. Она большая, всегда хорошо и богато одетая женщина, про нее не сказать — красавица, но такие бывают... лошади, крупные, гладкие, глаз оторвать невозможно.
— Пойдем к нам, — зову я Леху, сам не зная для чего. Мамы дома еще не было. Обеда тоже не было. Продукты имелись. Я предложил Лехе сообразить обед.
— Как? — удивился Леха.— Неужели ты можешь? Настоящий обед?
А чего тут такого? Отец, когда с нами жил, всегда на кухне возился и меня приучил.
Короче, мы сварили рассольник, сделали котлеты. Для гарнира оттаяли мороженую фасоль и залили яйцом. Из сока черной смородины у нас вот такой кисель получился!
Пока возились, мощно проголодались, так что обед в самый раз пришелся.
Когда, наконец, мать явилась, я ее в коридоре перехватил и быстро-быстро обстановочку прошептал, чтобы она нечаянно на Леху не обрушилась. Мама же считает, что Леха на меня плохо влияет. Но тут она все правильно поняла и разговаривала с Лехой на уровне.
Все испортил телефонный звонок.
Пал Василич потребовал Леху и так его понес — что из трубки дым! Мол он, Леха, — сукин сын и предатель. Пока все было тип-топ, трескал отцов хлеб, а теперь у родного отца "неустойка", так норовит из дому сбежать, отворачивается... А под конец велел: одна нога там, другая здесь! Чтобы немедленно был дома. Или пусть вообще на глаза не показывается.
— Придется идти, — сказал тоскливо Леха и сразу засобирался.
А мне сделалось его жутко жалко, но я, конечно, не стал у него на плече всхлипывать и вообще демонстрировать чувства. Проводил до дверей. Попрощались мы почему-то за руку.
Леха ушел, а я думаю: как это все получается в жизни? Наверняка Пал Василич Леху любит, на свой лад о нем заботится. Может, когда свои махинации прокручивал, и для Лехи старался?
Только, видно, от неправды хорошая жизнь
не получается. Ну а как узнать, где кончается правда и начинается неправда?
Вот мы, ребята, все пусть понемногу, а врем.
Кто приучает и кто вынуждает? Серьезный вопрос. И если не обманывать себя, надо ответить так: первыми заставляют нас уклоняться от истины взрослые. Возьмем того же Леху. Сам слышал, как отец велел ему объяснять кому-то по телефону, вроде он в командировке, вроде домой вернется дней через десять... А когда учитель требует: "Немедленно отвечай, кто набезобразничал? Кто подбил всех с урока смотаться?" Что нам остается, если не врать и выкручиваться... Вот и получается, жизнь идет в дробях: четверть правды, половина, а когда, например, ноль целых восемь десятых правды, так это же о-го-го сколько считается!
Мне Пал Василич всегда не нравился, теперь и подавно. Но Леху мне жалко. Все-таки в Лехе хорошего куда больше, чем плохого. Судите сами: жадности в Лехе ноль! Злости, не считая отдельных редких вспышек, совсем мало. Товарища он не заложит. Что обещает, обязательно исполнит. Хитрован? Это есть. А как он к хитрованству своему пришел? Я не думаю, что у папаши научился магнитофонными записями торговать или эти нелегальные фотографии печатать, но влияние дома, уверен, сказалось! Теперь он сильно переживает, думаю, не только за отца, но и за себя тоже...
Некоторые, не моргнув, говорят: доктором хорошо, а водопроводчиком гораздо хуже; другие считают: сварщиком отлично, а закройщиком — не дай бог! Это ерунда! Почему? А вот почему: сапожник-художник — прекрасно, а художник-сапожник — никуда не годится. Объяснить короче невозможно.
Вот мой отец, он шофер. Пусть первого класса, пусть еще и дальнобойщик — на международных линиях ездит, в глазах очень многих людей он только водитель, современный извозчик, так сказать. Но я отца на двух академиков не променяю! И не потому только, что родитель. Отец человек справедливый, живет исключительно по правде, никогда меня не унижает, мы с ним вроде товарищи. Конечно, я у него спрашивал: почему он такую профессию выбрал?
— А какая разница, что за работа у человека?
— ответил вопросом на вопрос отец. — Важнее в сто раз, какой человек
сам.
Знаю: в детстве папа собирался стать летчиком. Очень ждал, когда дорастет.
А дорос — и все лопнуло: не прошел медицинскую комиссию авиационного
училища. Тогда и рванул в шоферы. Почему именно в шоферы, он объясняет
просто:
— Мне нравится движение. В дороге водитель один — ты и шоссе. Это здорово! Едешь — думаешь о чем хочешь, никаких над тобой погонял, никаких начальников, если не считать инспекторов ГАИ. Пусть шофер — не летчик и почета нам меньше, но все равно — общего много. Мы работаем в аналогичных системах: человек — машина. И самое главное — эта работа мне по характеру.
Что же получается? Еcли хочешь хорошо, как говорят, удачно выбрать профессию, надо сперва узнать свой характер. А иначе могут не сойтись твои данные и требования ремесла...
Какой, например, характер у меня? Сразу скажу: на отцовский совершенно не похож. Папа спокойный, выдержанный, а я не только заводной, но даже психоватый. Одна мамина знакомая говорит про меня — дитя своего века! И всегда за меня заступается, дескать, это не он "искрит" — это нервы играют! Мило. Но от этого не легче. Надо что-то с собой делать. Понимаю, — но как?
Ребята часто обещают: с первого числа или с Нового года начинаю заниматься физзарядкой, бросаю курить или буду по двадцать пять немецких слов в день учить. Это детство, и первое число или даже Новый год тут совершенно ни при чем. Даты — мелкая хитрость, а на самом деле обыкновенная оттяжка. Решил — так давай! Цель назначил? Командуй себе: ша-а-агом ма-арш! И выше ножку, тверже шаг! А остановился, лень идти — в шею себя, в шею. Да-а, сам себя в шею!
Большинство ребят про то, как будет в жизни, не очень охотно разговаривают, а если кто и говорит, получается, что будущее само по себе, а мы сами по себе. И остается неясным, где и когда должна происходить стыковка между нами и светлым будущим...
— А-а-а, не бери в голову! — махнул рукой Леха, когда примерно такой разговор у нас, между прочим, после классного часа получился. — Никто ни от чего не разваливается... Все так или иначе приспосабливаются.
— Это правильно. Не стоит философию разводить, — сказала Оля. — Делай свое дело и радуйся — жив!
Примерно дня через три или четыре, после урока физкультуры, Мурад Саидович вдруг предлагает:
— Дамы и господа, леди и джентльмены, у кого есть желание посетить со мной, — называет число, — музей пожарной охраны?
Никто от Мурада Саидовича такого не ожидал. Аплодисментов, как нетрудно догадаться, по этому случаю не последовало. Но в назначенный день Дима Аверкин, Крохина, Миша Вольнов, мы с Олей и Валька Сажина составили временный коллектив энтузиастов пожарного дела. Во-первых, я думаю, никто особенно не спешил после школы домой; во-вторых, всякая возможность потусоваться лучше сидения в одиночестве, в-третьих, мне лично и, наверное, Оле, да и кому-то еще из ребят было неудобно не пойти, раз Мурад Саидович позвал. А он, между прочим, пришел в этот день в школу не в своем обычном темно-синем тренировочном костюме с тройными лампасами на обвисающих штанах, а в черной паре — так, кажется, называется это торжественное мужское одеяние? — в белой крахмальной рубашке, при модном узком галстуке. Сроду мы его таким не видели!
Валька Сажина, перестав чавкать жвачкой, не утерпела — спросила:
— А что это вы, Мурад Саидович, таким трефовым королем нарядились? Как бы вас не украли по дороге...
— Сегодня столетие со дня рождения моего отца, — ответил Мурад Саидович. — Все-таки впечатляющая дата, Валя.
Мы даже растерялись: надо или не надо поздравлять со столетием, очевидно, покойного папаши? И Ленки Коротеевой, чтобы толкнуть торжественную речь, не оказалось под рукой. Мурад Саидович уловил нашу растерянность и сказал:
— Слова не требуются, ребятки, вы и так оказали мне честь, согласившись именно сегодня посетить музей, а цветы мы купим по дороге, я знаю где.
Вот так финт! В музей с цветами? Как я понимал, цветы возят на кладбище. Но прежде, чем мы доехали до музея, прежде, чем я разгадал этот странный ход нашего Мурада Саидовича, случилось еще кое-что неожиданное.
Трясемся мы в троллейбусе. Время послеобеденное, относительно спокойное, в машине, можно сказать, просторно. У светофора троллейбус тормозит, спадает шум, и все слышат высокий женский голос:
— Эти евреи — умники, в свой Израиль мотают. А кому их места в торговле? — вещает толстая тетка своей нехуденькой попутчице. — То-то и оно — хитрые армяне, как тараканы, лезут...
— Хрен редьки не слаще! — тут же поддакивает попутчица. — А русскому человеку никакого ходу...
Ехал бы я один, услыхал бы такой разговор
и... И ничего, просто пропустил бы мимо ушей. Я человек русский, да?
Такой же, как все люди. О чем тут рассуждать? Но Мурад Саидович встал
с места, подошел к теткам и тоже очень громко, чтобы все слышали, сказал:
— Неуважаемые сударыни, позвольте передать вам пламенный привет с того
света от господина Геббельса!
Тетки, опешив, потешно дергаются, видно, не понимая, что им делать, a Myрад Саидович толкает дальше.
— А еще вам низко кланяется покойный Розенберг. Нет-нет, это не умотавший в Израиль жулик-завмаг из уважаемых вами жидов, ни в коем случае, а приятель и сотрудник Адольфа Гитлера. Последнее имя, полагаю, вам все-таки известно...
Первая тетка приходит в себя и рвется в бой, в контратаку, но Myрад Саидович обращается к нам и велит:
 |
— Джентльмены, помогите, пожалуйста, сударыням покинуть салон... Только вежливо, мальчики. Сейчас остановка, вынесите их сумки — авоськи на тротуар, а фигуры они вынесут следом за имуществом сами — сударыни не расстанутся со своим. Надо очистить воздух...
Ну, а музей оказался до того чистым, что шаг ступить боязно. Все сверкало и блестело кругом — от паркетных полов до медных касок. И вообще экспонаты были замечательные, и старинные и современные... Ну, видели ли вы, например, тряпочный рукав, через который можно эвакуировать живого человека хоть с десятого этажа горящего дома? Вот то-то!
Но Мурад Саидович привел нас сюда не для того, чтобы агитировать: давайте, ребята, в пожарники! Во втором зале мы увидели большой фотографический портрет... Мурада Саидовича, то есть мы так подумали — он. Но быстро разобрались. Наш Мурад Саидович был как две капли воды похож на своего отца. Это раз. А два — отец его погиб давно, и на снимке, что хранил музей, отец был, наверное, в возрасте своего живого сына. Отец долго служил в пожарной охране, он был потомственным бойцом "огненного фронта", как торжественно сообщал стенд.
Не успели мы ступить в зал, как к Мураду Сандовичу подошла присматривавшая здесь за порядком женщина, поздоровалась за руку, пошепталась и тут же приволокла вазу, уже налитую на треть водой. Нам осталось только распушить и поставить в воду гвоздики. Красные-красные, краснее огня. Интересно, в музее в такой день Мурад Саидовнч не строил постной физиономии, не изображал мировую скорбь, он был, как всегда, довольным и хлопотливым.
Потом, когда мы уже топали домой, Оля сказала:
— А правда, хорошо, что мы пошли с ним? Мураду Саидовичу было приятно... не одному...
Мы опустились по улице Дурова к бульвару. А там, хотите — верьте, хотите — нет, гулял... слон. Настоящий, живой! Как мы поняли, из театра зверей. Театр рядом. Мне очень хотелось познакомиться с этим живым чудом, погладить хобот, но не решился.
20. Вполне отдаю себе отчет: воспоминания и мой несовершеннолетний возраст — вещи совершенно несовместимые. Ясно всякому: мемуары — утеха и дело стариков, проживших свою тысячу лет, воевавших или летавших в космос, пехом добравшихся до полюса или под парусом перешагнувших в одиночку Атлантику. Принцип простой: отличись, будь не как все люди, доживи до такой черты, чтобы все главное у тебя осталось позади, вот тогда, берясь писать свои мемуары, и поторапливайся!
Но что делать, если в моем маленьком
прошлом есть моменты, которые мне очень, невозможно как хочется включить
в эту книгу?
Думаю, вы согласитесь — с человеком редко что-нибудь просто так случается.
Это только говорится: иду, тут бац — и... На самом деле, в настоящей
жизни всякое бац имеет свою причину.
Мы тогда учились только в третьем классе. Зима уже кончилась. Снег превратился из белого в серый и покрылся черными плешинами грязи. Ледяная горка, с которой каталась вся школа, за какой-нибудь день стала такой блестящей и скользкой, что влезть на нее сделалось в пять раз труднее, чем скатиться. Давно прошло двадцать третье февраля (Оля подарила мне солдатскую звездочку). В школе провели праздник. Приходили шефы и показывали кино про войну... Все это прошло, и приближалась весна, а с ней — Восьмое марта.
По этому поводу вплывает в класс Фаина Исааковна и объявляет своим базарным голосом:
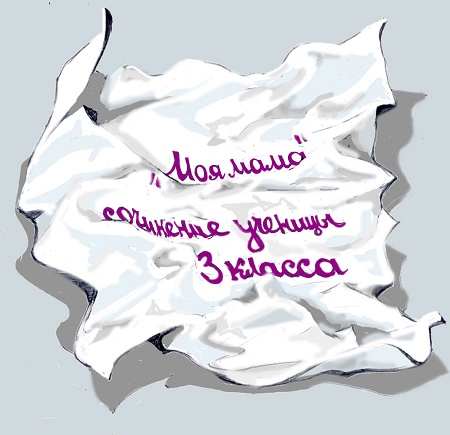 |
— Все быстро достают чистые двойные... повторяю: двойные листочки в линейку! Живо, живо, живо! Все на первой странице сложенного тетрадного листа пишут... Тихо! Еще тише! Пишем на шестой... повторяю: шестой строчке сверху... Открываем кавычки, с большой буквы: "Моя мама". Закрыли кавычки. Под названием сочинение ученика или ученицы третьего класса, дальше фамилия, имя... Готово? Алексей, Дима, выгоню! Не вертись. Кирилл! Распустились... Пишем сочинение. Начинаем на первой строчке внутренней — смотрите все: вот здесь — левой страницы. Ясно? Первую, заглавную, букву рисуем в квадрате... повторяю: в квадрате два на два сантиметра и украшаем узором. Показываю на доске. Такое изображение называется...
Кто-то звучно пискнул:
— Буквица!
— Правильно, буквица, но я пока никого не спрашивала. Даманова вылезла? Вымою язык мылом, чтобы не болтала лишнего!
Вообще-то вступление было гораздо длиннее, но я его сократил: главное произошло немного позже. Третий класс писал сочинение про своих мам. Каждый доказывал, что его мама самая-самая лучшая... Это мы твердо усвоили еще в детском садике. Раз мама — значит, лучше всех на свете, и по-другому не бывает.
В классе было тихо, никто не баловался, все писали... Нет, оказалось, не все. С нами училась Инга Зеликова — тощая, тихая девочка. Никто ее не замечал, никуда она не лезла, никогда не выставлялась. Спросят — ответит, а так — все молчком и сторонкой. Прицелила Инга глаза в одну точку, сидит и не пишет. Фанька ее засекла и подкатывает:
— Почему не пишешь, Зеликова? В чем дело? Время идет! Все сегодня должны написать очень хорошие сочинения, теплые и сердечные, чтобы я смогла на родительском собрании поздравить ваших мам и вручить им эти работы, как дорогой, праздничный сувенир. А ты ворон ловишь, Зеликова! В чем дело?
— Не знаю, про что писать...
— Не знаешь? И вытаращилась в окошко... А там ничего не написано! Не знаешь, что мама — самый близкий, самый родной человек? Интересно! Кто больше всех отдавал тебе своего времени, кто не спал у твоей кроватки, когда ты болела? Мама! Правильно я говорю? Правильно! Вот и пиши, пиши, как все было. Давай, Зеликова, времени мало остается.
Прошло минут пять. Фанька снова подкатывает к Ингиной парте и как рявкнет — мы аж подскочили!
— В чем дело, Зеликова? Я же сказала — работай! А ты? Почему не пишешь?
— Не знаю, что писать,— говорит Инга, а сама как смотрела в окошко, так и продолжает смотреть.
Ну, уж тут загремело, что в Бермудском треугольнике! Неблагодарная, черствая девчонка!.. Кто не находит доброго, теплого слова для родной матери, не достоин звания человека! Жаль, нет детской каторги для таких, чтобы они с утра до ночи камни ворочали, и...
Что еще ожидало недостойных на детской специализированной каторге, кроме камней, мы не узнали. Тихая, незаметная всегда Инга вышагнула из-за своей парты и двинула напряженно-деревянным шагом вдоль прохода к двери. И получилось — Инга наступает, а Фанька пятится. Это было бы смешно, если б Зеликова не выговаривала на каждом шаге: "Ненавижу, не-на-ви-жу, не-на-ви-жу!" Мы все растерялись и притихли. Такого еще в нашем классе не случалось. Что же будет?
До двери оставалось не больше трех шагов, когда Фаина Исааковна, вроде очнувшись, громыхнула:
— А ну!.. На место! Марш! И без фокусов! Зеликова, я кому говорю?
— Я не собака, — совсем тихо ответила Инга и повторила: — Не-на-ви-жу.
И сразу же двери за Ингой закрылись. Навсегда. Больше в наш третий класс она не вернулась. Мы были малы и скоро забыли Зеликову, а зря! Надо бы нам помнить и чтить. Если бы я писал мемуары на самом деле, по всем правилам, то эту малюсенькую главку назвал бы "День рождения ненависти".
По-моему, я уже говорил: чтобы жизнь для всех сделалась лучше, взрослые должны перестать просто командовать ребятами, а научиться понимать нас.
Фаина чуть не силой требовала от Инги выражения любви, теплых чувств и нежных слов в адрес матери. Так? А за неделю до этого Ингину маму в принудительном порядке поместили в больницу — лечиться от пьянства. Инга уже перебывала в разных учреждениях, где с ней разговаривали чужие люди, они решали — лишать Ингину мать прав на дочь или нет. Может, это и законно, не знаю. Но в третьем классе человеку бывает только еще десять лет... Мы же еще очень мало понимаем, мы только умеем все чувствовать!..
Хорошо, в мире есть и добрые люди. Инге помогали и соседи, и сослуживцы матери (отца в доме вообще не знали). А Фанька разорялась: кто тебе больше всех дал..., кто не спал ночей у твоей постельки... И не говорите, что учительница могла и не знать, какие обстоятельства у Инги дома. Должна знать, на то она и учительница, чтобы все понимать и учитывать.
А мемуары — штука, оказывается, не безобидная. Для меня, во всяком случае, не все люкс получилось. Пока я про Ингу Зеликову и всю эту историю вспоминал, думал, писал, Фаина Исааковна, как кость в горле, у меня торчала. Хотя теперь у нас с ней никаких дел. Она малышню дрессирует, в наш класс никогда не заходит. Но тут, на свою беду, напоролся я на Фаньку в метро. Да где! Почти на том же самом месте, где я с военным патрулем сцепился. И черт меня дергает за ниточку: смотрю на бывшую свою училку и делаю вид, будто я ее в упор не вижу. На, мол, получай за свое презрение к нам, малышне, сдачу!
И что же вы думаете? Фаина Исааковна останавливается, манит и окликает меня: "Подойди!" Что делать? Музыка во мне затихает, приближаюсь. А она на весь вестибюль — не слабо? — как тот майор, орет:
— Почему не здороваешься, Каретников?
Мог я вильнуть: не заметил, мол, извините, задумался. Но я уже признался — черт меня за ниточку потащил, и я скорчил рожу идиота и доверительно произнес:
— Тошнит меня...
— Что-о-о? Как понимать?
— Обыкновенно понимать. Как погляжу на вас..., — И я громко, по Лехиному рецепту, рыгнул на заказ.
Кто-то даже отскочил от меня. В милицию Фанька меня не сволокла, но к директору я попал.
Первым делом он спросил; что случилось?
— И по возможности, Кирилл, пожалуйста, коротко — только самую суть!
Я подумал и процитировал почти забытую Ингу Зеликову:
— Не-на-ви-жу! И объяснить короче, Матвей Семенович, не могу.
— За что, Каретников? Суть.
— Если подчиненный обижает начальника, это плохо, стыдно, некрасиво и так далее, но когда начальник обижает подчиненного, это всегда подло... — Я хотел объяснять и обосновать, почему подло, но Дир сказал:
— Мысль ясна!
Кажется, он готов был согласиться со мной, но воздержался. Помолчал и спросил, напуская суровость и хмурясь:
— Что, ты считаешь, в этой ситуации должен делать я? Фаина Исааковна ставит вопрос так: или она, или ты остаешься в школе. Кого же мне сохранить?
— Наверное, тот, кто нужнее, должен быть сохранен, — сказал я. — Или можно еще иначе рассудить: от кого вреда меньше, вот того и оставить.
Дир смотрит на меня, наверное, целых двести лет. И вот-вот — это я печенкой чувствую — должен улыбнуться, но тут, как слон, врывается в кабинет Роман Абрамович, труд и завхоз, и начинает лепить:
— Вызвал... ноль-три... приступ... уже едут...
Хватануло, к сожалению, не Фаньку, а
тетю Клаву — буфетчицу. Но все равно — на какое-то время Диру сделалось
не до меня.
Пока он отсутствовал, пытаюсь определять, как вести себя дальше. Диру,
конечно, не просто: училку как выгонишь? И меня, думаю, ему вышибать
тоже не хочется, но и сделать вид, вроде ничего такого не произошло,
ему невозможно...
Матвей
Семенович — человек приличный, никто спорить против этого не станет:
никогда не орет, старается действовать по справедливости. Вот если бы
не вилял еще хвостом перед деятелями, когда они посещают нашу образцово-показательную
и экспериментальную школу, совсем клевым мужиком мог наверняка быть.
В чем-то мне его иногда бывает даже жалко.
Если директор школы научится сам, научит всех учеников на ушах стоять
и сделает из каждого Архимеда, все равно ему при жизни памятника не
поставят. Как — почему? А тараканы в буфете? А ковровую дорожку из пионерской
комнаты свистнули? А что на дверях в уборной изображено?..
Когда Дир наконец возвратился в свой кабинет, я, не дожидаясь понуканий, сказал:
— Ладно, я перед Фаиной извинюсь. Черт с ней! Но вы бы ей для пользы дела объяснили...
Слушать меня дальше Матвей Семенович почему-то отказался. "Душеспасительные наставления", как он выразился, велел оставить при себе и очень выразительно распорядился слинять, исчезнуть, улетучиться из... его кабинета. Чувствуете? Вон из кабинета — не из школы!
Все-таки Матвей Семенович с пониманием. Если меня когда-нибудь сделают министром надо всеми школами, я его возьму в первые заместители.
21. Перемена. Стою около окошка, ни про что особенно не думаю, ничего такого не ожидаю, вдруг подходит парень, вроде из десятого, и спрашивает, я ли — Каретников.
— Ну я.
— Нам Юрий Павлович говорил — ты вундеркинд, все даты помнишь и вообще можешь пол-учебника без остановки рассказывать. Это правда?
— Юрий Павлович — шутник. Мы, когда он урок ведет, всегда смеемся...
— Но он же точно говорил, что ты про все знаешь. Вот скажи чего-нибудь, хотя бы, хотя бы... например, про Врангеля. Можешь?
— Он самым главным противником революции был..., а что тебя конкретно интересует? Звали его Петр Николаевич. Был бароном.
Воинское звание нужно? Генерал-лейтенант. В восемнадцатом году организовал Добровольческую армию — белую, понятно. Командовал. С двадцатого стал главкомом русской армии в Крыму, тоже ясно — белой. Из Крыма бежал за границу. Жил во Франции, в Париже, создал Российский общевоинский союз и был его председателем. Умер пятидесяти лет... Еще надо?
— Ну, ты даешь! "Петр Николаевич"! Вроде у него в родственниках записан! И ты про все вот так, с ходу граммофонить можешь? Тебе, выходит, и учиться не надо. На любой вопрос — любой ответ!
Он ушел, а мне смешно: да ничего я толком не знаю. Из головы могу, конечно, вытащить много чего, но это... как бы сказать?.. не мое, а чужое имущество, я вроде камеры хранения — берегу! Для чего, куда девать, когда использовать?.. Темновато.
Подумаешь, Врангель Петр Николаевич! У нас, между прочим, и почище Врангель был — Фердинанд Петрович. Тоже барон и адмирал, знаменитейший мореплаватель! На судне "Кроткий" в кругосветку ходил. Создал Русское географическое общество, вычислил положение острова, который потом, когда в натуре обнаружили, назвали островом Врангеля, управлял русскими поселенцами в Америке. Два года был морским министром России...
В башке пошарить — так всегда можно много чего еще найти. Только для чего это мне?
Другие ребята, я просто удивляюсь, с детского садика — в моряки, и больше никуда! Или там в летчики, а кто-то совсем даже наоборот, — в артисты, в доктора... Кому, понятно, что нравится. А я никак не разберусь — куда после школы лучше двигать? Знал бы точно — можно подготовку начать, читать про свое дело, запоминать нужные сведения, научиться что-то полезное делать.
И тут меня тоже взрослые удивляют!
Приходит в школу Герой Социалистического Труда, мастер, забыл только какого завода, токарь. У нас профориентация. И гость, понятно, начинает перед ребятами свою профессию нахваливать. Вот, мол, некоторые думают, будто токарное ремесло устаревает, вроде оно вчерашний день, и техническая революция токарей вообще отменяет. Наш гость с этим не соглашается, уверен — новые времена сделают его специальность только сложнее и интереснее. Тут же он рассказывает занятные байки, как один мастерюга выточил на своем станке куб, а другой, еще более великий мастерюга — шесть шаров, один в другом, а третий, которому даже памятник вроде поставили или только решили поставить, умудрился выточить... топор!
Час целый человек говорил. Интересно. А потом предложил задавать ему вопросы.
Без задней мысли я у него спросил: как он думает, если к нам завтра придет другой Герой Социалистического Труда, тоже замечательный мастер, но только не токарь, а, допустим, электросварщик, что он станет нам рассказывать?
Классная, конечно, меня тут же обругала, велела садиться. А Валька Сажина даже извиняться полезла, ей, видите ли, за Каретникова "просто совестно". Каретников невоспитанный! Каретников несознательный!
Ладно, допустим, я и в самом деле что-то не совсем так выразил, но смысл-то правильный был. Разве же всяк кулик свое болото не хвалит? Сто и тысяча разных мастеров обязательно будут доказывать, что у каждого специальность самая-самая лучшая! И это нормально.
Другое дело, как нам работу выбирать, когда мы ничего толком не знаем, ничего не пробовали, а многих вещей и не видали. К примеру, я буровую вышку только по телевизору наблюдал. Как выглядит долбежный станок, не представляю, за кулисами театра и минуты одной не был, глубже метро никуда не спускался...
А выбирать надо.
Кто придумал каждую весну выклеивать на афишные щиты плакаты: интересная профессия — водитель автобуса; рядом другой плакат: интересная профессия — водитель трамвая; дальше интересная профессия — водитель троллейбуса? И думает, что помогает ребятам найти себя, бумаги ему не жалко, краски, клея. А главное — не стыдно свою глупость на всеобщее обозрение выставлять?!
Странно, но тут даже отец ничего толком сказать не может. Заводил с ним разговор, и не один раз, а он начинает: вовсе, мол, это не самое важное, чем ты зарабатываешь, кем работаешь. Важнее — удачно выбрать образ жизни.
Может, я не совсем все запомнил, но смысл его речей таков. Скажем, если ты компанейский малый, легко сходишься с людьми, если имеешь тяготение и любопытство к технике, то работа ремонтного механика, наладчика станочного оборудования, слесаря-сборщика тебе вполне подойдет; если же у тебя характер замкнутый, если тебя тянет к уединению, то при прочих равных условиях стремиться лучше не в бригаду, а куда-нибудь в часовую мастерскую или, скажем, в ателье ремонта пишущих машинок, где работают вообще-то точно такие же механики и наладчики, но индивидуально.
Тогда я спросил: а кому, он считает, подходит работа в экспедиции, в поисковых партиях, в строительных поездах — словом, выездная работа, работа с колес?
— Правильно задаешь вопрос! — сказал отец. — Для экспедиционника противопоказано: домоседство — раз! Страсть к обарахлению — два! Большая семья — три! Туда нужны бродяги, легкие на подъем мужики, любители природы и свежего воздуха, закаленные парни. Им чтоб и насморк, и сквозняк — тьфу! А еще экспедиционнику надо уметь принимать самостоятельные решения. К начальству по трассе какой-нибудь ЛЭП особенно не набегаешься: туда-сюда, глядишь, и тысяча километров, а то и больше выйдет. Быть самому себе толковым начальником — это не каждый может...
Вот в таком роде высказывался отец. Все правильно, возразить нечего, а как его линию к себе применить, пока не знаю.
Хорошо Оле. Она Риту каждый день дрессирует, и никаких сомнений у нее теперь нет: будет в детском садике работать. Я спросил: а почему именно в садике? Она говорит, что любит малышей, что ей интересно с ними заниматься, а больше ничего и не надо...
Иногда мне кажется, вроде Оля куда взрослее, чем я. Вот и про то, как она будет дальше жить, знает. Она теперь часто, прямо как моя мама, говорит: "Это — неудобно, так — неприлично..." Начинаю злиться, а она не может понять — почему. Раньше мы были с Олей почти как один человек: она засмеется, а я знаю, в чем дело. Или: у меня кошки на душе заскребут, Оля ничего не спрашивает, но точно знает, отчего и почему. А теперь не то. И мне Олю, наверное, не догнать...
Учителям и вообще всем взрослым, хлебом их не корми, только дай поговорить о пользе книги! Книга — лучший друг человека! (Собака тоже.) Книга — наш самый надежный спутник! Читай больше — узнаешь, что было, что есть и что будет. Как тут спорить? Правильно говорят: учение — свет. Но не все же я из книг вычитал.
...Меня маленького мама купала. Само собой, голого. Как начинает мылить и мочалкой тереть, я — смяться: щекотно... Но теперь я же не стану при ней раздеваться. А почему? В принципе представляю, только не из книжного чтения... Леха мне кое-что дал понять! Он-то и про стыд, и как дети появляются, и что надо делать, чтобы не появлялись, понимает... Только рассуждает про все это как-то противно — с ухмылочкой, с хихиканьем. Но польза от его трепа была. Кое-что я понял, а кое-что не совсем усвоил, но многие незнакомые до того слова запомнил. И тогда поглядел в энциклопедию — и сразу стал светлее. Энциклопедия — вот книга! Всем, можно сказать, книгам книга! То, что в школьном учебнике жуют, жуют и жуют, в энциклопедии в пять или десять строчек втиснуто. Коротко, ясно, четко. С некоторых пор первое чтение у меня — энциклопедия, словари, справочники... Никогда раньше не думал, что таких книг существует на свете прорва! Как в справочном отделе библиотеки поинтересовался, так у меня шарики за ролики покатились...
..Здесь в рукопись Вундеркинда
оказались вложенными листки размером несколько меньше остальных. Исписаны
они были его, Кирилла, почерком, но не таким аккуратным, как обычно.
Или он очень спешил, а может быть, писал с отвращением: отделаться бы
поскорее...
Вчитавшись, я понял: передо мной черновик сочинения, посвященного сравнительной
характеристике Остапа и Андрия — сыновей Тараса Бульбы. Подумал: оставить
или убрать? И решил — не стану исключать. Не зря говорится: "Из
песни слова не выкинешь".
 |
"Тараса Бульбу" сочинил Николай Васильевич Гоголь. Писатель давно признан классиком и даже солнцем российской прозы. (Кем?) Его очень уважал сам Александр Сергеевич Пушкин. В отличие от главного астрономического светила, на российском литературном солнце пятен быть не может, то есть замечать их не полагается! Если уж кто возведен в официальный ранг классика, само собой подразумевается: каждое его слово — чистый бриллиант в платиновой оправе.
Здесь оставлено довольно много свободного места — вероятно, Каретников собирался что-то дописать. — А. М.
На первой же странице классического "Тараса Бульбы" Гоголь подробно рисует сцену приезда сыновей Тараса домой. Когда папаша начинает подшучивать по поводу не казачьей одежды бурсаков, их длинных и нескладных свиток, Остап решительно заявляет: "...хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу". И они, Тарас с Остапом, пусть не совсем всерьез, но дерутся на кулачках.
В этой сцене дана, так сказать, основательная заявка (?) на характер старшего сына, Остапа.
Из дальнейшего повествования читатель узнает, что в бурсе Остап пытался сначала хорошо учиться, но его все равно наказывали (метод: драть, давить!). И любопытно: "Остап Бульба... никак не избавлялся от неумолимых розг..." Несправедливость постоянно торжествовала, а он вынужден был терпеть. "Остап всегда считался одним из лучших товарищей, он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака (тут Гоголь подчеркивает: Остап не из породы лидеров. Он старательный, смелый и несколько туповатый исполнитель) и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей".
По-моему, все уже ясно. Следующие дальше оценочные слова мало добавляют, они только подтверждают характеристику старшего сына Тараса Бульбы: "Он был прямодушен с равными" и т. д.
Здесь снова — пропуск.— А. М.
Поведение Остапа в казачьем стане на Хортице, в походе, в боях до самой мученической его смерти от рук злокозненных поляков вполне соответствует сути этого популярного гоголевского персонажа.
Остап в глазах Гоголя, без сомнения, герой положительный, хотя и изображен он ограниченным, исполнительным, слепо преданным казачеству, ни о чем не думающим и не рассуждающим (тут надо подкрепить цитаткой, чтобы насмерть била!) Возможно, для времени, в котором жили Бульбы, Остап и был идеальным "лыцарем" (так у Гоголя). Несколько странно, что сам Николай Васильевич, писатель эпохи декабристов, ни в чем не осуждает своего героя, а откровенно им любуется. Наверное, многие современные майоры, не читавшие Гоголя, тоже принимают Остапа героем номер один: он уж точно не из породы "больно грамотных"!
О младшем сыне Тараса, Андрие, Гоголь пишет: "Он был изобретательнее своего брата; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия (в данном случае речь идет о внутренних баталиях в бурсе. Вершиной подвига считался тут грабеж в соседском саду или мелкий разбой на базаре). И иногда с помощию изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания..." Андрий — в некотором роде комбинатор, хитрован.
Николай Васильевич Гоголь особенно выделяет и подчеркивает, что, начиная с восемнадцати лет, Андрий постоянно думает о женщинах, и с сочувствием замечает: "...что в тогдашний век было стыдно и бесчестно козаку". Сначала полагалось отведать битвы, показать себя бойцом.
Странный поступок совершает однажды Андрий. Увидав в окошке красавицу дочь ковенского воеводы, он ночью, через дымоход (!) проникает к ней в комнату и... стоит перед красавицей совершеннейшим безмолвным пнем, не выговаривая ни одного слова. Сперва девица сильно пугается. Еще бы! Из камина вылезает такой лоб, небось весь еще и в саже, — испугаешься! Но потом приходит в себя и развлекается с Андрием, как будто это кукла.
Анекдот? Анекдот!
Но последствия этой, извините, Николай Васильевич, глуповатой комической истории оказываются более чем трагическими. Позже, уже в боевой обстановке, когда Андрий вновь встречает красавицу полячку (в стане врага!), он произносит перед ней программную речь: "Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить! Нет, моя панна, нет, моя прекрасная! Я не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле, — все отдаю за тебя, все прощай!" (Стиль, так сказать! Но не это самое важное). После этих предательских слов Андрий переходит на польскую сторону.
Двух мнений тут быть не может — изменник! Довольно, к тому же, примитивный: сколько-нибудь серьезных поводов для измены родине у него нет, только прекрасные глаза красавицы полячки.
Тарас Бульба вполне закономерно приговаривает собственного сына-изменника к высшей мере наказания и своей же рукой приводит приговор в исполнение.
Таким образом, покладистый, верный Остап по всем ведущим свойствам характера — полная противоположность брату, эгоисту и предателю Андрию. Кровь одна, а личности диаметрально противоположные. Можно сказать, антиподы! Впрочем, кое-что общее между братьями есть. Оба они ужасно неразвиты (даже для того времени), оба совершенно безыдейны: они воюют без каких-либо идеалов, лишь прикрываясь словами о боге, вере, отечестве, а на самом деле их привлекает война — грабежом, откровенным бесчинством. Они мучают людей, терроризируют, население, пьянствуют — война! И тут возникает серьезный вопрос: а иначе бывает ли на войне?
Мы учим по истории: несправедливые войны (?) не порождают настоящих героев. Поэтому мне кажется странным, что образованный человек, яркий обличитель самодержавия, Гоголь этого вроде не понимал, а, скорее, делал вид, что не понимает. Человек, который пишет книги, непременно желает получить свою порцию славы — не славы, так, на худой конец, признания. И Гоголь, мне, во всяком случае, так представляется, не составлял исключения. Хотя...
22. Что-то очень давно в нашем классе не штормило. Тишь да гладь. Никакими происшествиями даже не пахнет. Живем до ужаса пресно. Один раз я пробовал еврейскую мацу — на Пасху меня угостили, — вкус точно такой же пресный: ни соли, ни перца... Один хруст, когда ломаешь.
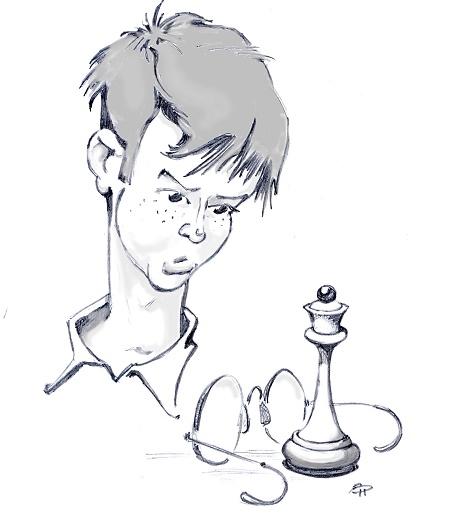 |
Исключительно чтобы немного всколыхнуть обстановку, порадовать народ, я смахнул у Ферзя — он наш математик — очки на уроке... Почему такое странное прозвище? Объясняю. Сам — длинный и тонкий, а головка — маленькая-маленькая, лысенький такой шаричек. Поглядишь — ну натуральный ферзь.
Да, очки я смахнул с учительского стола, пока он носом возил в каких-то таблицах, и тихонечко опустил в Ферзев портфель. Портфель стоял раскрытым у ножки стола. Вся операция была исполнена на счет три-четыре...
А каких-нибудь пять минут спустя началось: он цап туда, цап сюда, а очков нет. Шарит по столу, хлопает себя по карманам... Как корова языком слизала!
— Только что, ребята, — говорит
важно Ферзь, — вот на этом месте лежали мои очки... Никто не заметил,
куда я их сунул?
Он сунул!
— А на кафедре нет?
— Вы в боковом кармане пошарьте...
— Бабушка у нас тоже всегда очки ищет... Иногда даже у себя на лбу проверяет...
И пошла потеха. Все стараются помочь, шум, гвалт... Вдруг вскидывается Сонька Крохина и орет, как будто пожар, не меньше:
— Не стыдно, мальчишки! Совесть у вас есть?! Отдайте человеку очки, — и еще шипит, потише. — Он же слепой без очков.
Да-а, как-то нездорово поворачивается шутка!
Ну и надо понимать, Ферзь слепой, но вовсе не глухой. Сонькнны вопли и ее шипение он услышал и понял, что очки у него, как бы сказать, сперли мы. Удивился, надулся бы, нет — вроде что-то хотел сказать, но раздумал, отошел к окну, отворил форточку, выудил из мятой пачки "Дуката" сигарету и... закурил. Сроду я такого еще не видел — на уроке! В классе! У-ч-и-т-е-л-ь!..
Тут записка мне. Димка Аверкин перекинул прямо в руки. Читаю: "Отдай. Он же совсем слепой". Почерк вроде Олин. Оборачиваюсь, чтобы выяснить, но натыкаюсь взглядом на Леху. Этот доволен! Показывает большой оттопыренный палец — во! Сила, мол.
А Ферзь возвращается к столу и спокойно, обычным своим голосом говорит:
— Прошу записать задание на дом, — и диктует номера примеров, страницы. Потом что-то еще разъясняет про график... Словом, если войти в класс, — гладь, тишь, полный порядок.
И как-то всем перестает быть весело. И мне вроде неловко. Для чего только я Ферзю эту глупую бяку сделал? Может, встать и сказать, где его очки?.. Но не успеваю.
— Каретников, — спрашивает вдруг Ферзь, — ты не можешь посоветовать, где мне еще поискать очки?
— Советую поискать в портфеле, — говорю я, покрываясь липким, подлейшим потом.
— Где-где? — Он делает вид, что не понял, вынуждая меня повторить:
— В портфеле посмотрите.
Очки он, ясно, находит, надевает,
пожимая плечами, крутит головой, бормочет: "С ума сойти можно!"
— и все. Урок продолжается.
Ферзь никому не нажаловался, крови не требовал, однако так просто эта
история тоже не кончилась. Вечером телефонный звонок:
— Это я, Рита. — И тут же сообщает — она про очки, записку и портфель
все знает... (Я понимаю: события обсуждались у Маслениковых.) И Рита
хочет знать: — Ты Кирюша, как про себя считаешь, — ты злой или не злой.
Скажи по правде.
— Я ужасный злодей и даже людоед. Меня надо остерегаться, Ритка-нитка!
Она терпеть не может, когда к ее имени пририфмовывают "нитку", "плитку", "калитку" или еще что-нибудь совершенно бессмысленное, но так легко цепляющееся.
— Значит, ты злой... Тогда, Кирюша, будь, пожалуйста, хоть справедливым. Ладно? — И голосок у нее делается тоненьким-тоненьким, как у мышки.
Все складывается: поведение в классе, дурацкий этот звонок, мысли, набегающие неизвестно откуда... Надо кончать с этим. Выбрав подходящий момент — свидетелей поблизости нет, — подхожу к Ферзю:
— Вы на меня сильно обиделись? — спрашиваю, вместо того чтобы просто, без затей извиниться: так, мол, вышло... постарайтесь понять и извините дурака.
— Обиделся? — переспрашивает Ферзь. — За что обиделся?
— За очки, — говорю я и уже любуюсь собой: вот какой я правильный — сам себя наказываю!
— Нет, — говорит Ферзь, — совсем я на тебя не обиделся.
Надо же! Ну, ни на что такое не похоже. И я ни к селу, ни к городу любопытствую:
— Но почему же?
— На дураков, Каретников, не обижаются. Вот так, милый.
Отрубил и пошел.
Но разве я на самом деле дурак,
глупый, ничтожный? Не верю. Может, Ферзь выдал мне такую аттестацию
в знак полного презрения?
Делиться новыми огорчениями мне ни с кем не хочется: не люблю плакальщиков.
Но я все-таки нахожу повод, чтобы завести подходящий разговор с Олей.
Спрашиваю, какого она мнения о моих умственных способностях, а проще
— какого я размера дурак?
Оля приподнимает бровки:
— Кто дурак? Ты? Ерунда, Кирилл, никакой ты не дурак. Просто ты мальчишка с большими завихрениями. Это у тебя скоро должно пройти...
А вот Леха придерживается несколько иного мнения.
— Ясно, дурак! — припечатывает Леха. — Кто только тебя за язык дергал! Для чего сказал, где очки? "Поглядите в своем портфеле"! Да он бы неделю искал, если бы ты не раскудахтался.
Ничего, если крупно мерить, не произошло. Никто не умер. А меня преследует плохое настроение. Иногда даже кажется — заболеваю вроде. Это от угрызений совести так муторно и противно.
Хорошо, отец из рейса вернулся и зашел к нам.
Вот кто умеет правильное слово кинуть. Он сразу схватил, что к чему, и сказал так:
— В дурацкое положение попадают только умные люди — дураки из такого состояния никогда не вылезают, в дурацком положении они пребывают бессрочно... Три к носу. Случается.
Интересно, по головке меня папа не погладил (было бы за что!), а все-таки камень с души снял...
Отвлекусь немного, вспомню про самый лучший праздник на свете — про Новый год! Только я не собираюсь рассказывать о танцах вокруг елки, о каких-то там заморских игрушках — меня занимает совсем другое. Когда пришел этот Новый год, отец приволок нам елку не покупную, а прихваченную из лесу, по дороге в Москву. Незаконно он ее прихватил. Что было, то было. Деревцо не очень большое — с метр; он его не спилил, не срубил, а выдернул. И так и привез, с комом земли на тонких, змеистых корнях. Укреплять эту елку в крестовине мы не стали. Воткнули ее в старую кастрюлю вместе с комом земли, добавили еще песку и притрамбовали.
Отпраздновали Новый год, отгорели на елочке свечки, и выставили нашу красавицу на балкон, чтобы потом, как и все делают, выкинуть на помойку. Да почему-то не выкинули. Забыли, скорее всего.
Теперь весна. Солнышко стало припекать, снег оседает, можно сказать, на глазах. Такое впечатление, будто видать, как поворачивается планета. Мама разрешила отклеить окна. Вчера вышел я на балкон и... ошалел — елка, простояв три месяца на балконе в кастрюле с землей, не засохла, не погибла. Она смотрела на меня, зеленая-зеленая, как в лесу. Понимаете, жива оказалась!
Может, это случайность? А вдруг не случайность?
Подумайте, сколько в стране, во
всем мире каждый Новый год совершенно зря погибает деревьев, если елку
можно сохранить?!
Вот бы елки приглашать на наш человеческий праздник Нового года, а потом
возвращать в лес!
Мы все придумываем, чем бы ребятам заниматься с пользой для жизни. Много лет собираем, например, макулатуру, из которой потом ничего толкового сделать не умеем (сам в газете читал: японцы из макулатуры бумагу получают, а мы — картон). Ясное дело, кому охота на такие "мероприятия" ходить, когда один обман... А тут бы такой лозунг толкнуть: "Вернем елки лесу!" И ведь каждый бы мог убедиться: сохранял, высадил в грунт весной, и она живет, зеленеет, елочка!
Когда мне все это в башку стукнуло, я сразу позвонил отцу, сказал:
— А наша — то елочка, папа, жива! Представляешь?
Он обрадовался.
Ну, меня, понятно, повело излагать свой план: вот бы да во всей стране наладить сохранение елок...
— Ты знаешь, — сказал отец, — я читал: кажется, на Камчатке есть лесопитомник, где специалисты выращивают домашние елки. Они растут в какой-то специальной таре... И кажется, в Австралии тоже что-то в этом смысле соображают. Думаю, идея у тебя правильная. Увидимся — обсудим.
Когда я шел в тот день из школы, нарочно сделал крюк и задержался у мусорных баков. Сколько же кругом елочных скелетов было набросано! Они только-только из-под снега вылезают, такие страшные, рыжие, как будто все в ржавчине... Поглядел — и совсем мне тошно сделалось: что же за народ — люди: ничего не жалеют, ничего не берегут?
Теперь каждый день слышишь: экология, сохранение природы... Слова все правильные, бывает, прямо-таки до слез прошибают, но от слов-то леса расти не станут и водоемы не сделаются чище.
23. Достаю утром из почтового ящика газеты, смотрю, из "Комсомолки" конверт выглядывает. Хватаю письмо. Очень даже странное письмо, без марки и без адреса. Там, где строчка "Кому", нарисованы печатные буквы, ровненькие, как по трафарету выведенные: "Каретникову Кириллу (исключительно лично)". Что говорить, письмами я не завален. В разных там клубах по переписке, в интернациональных обменах не участвую. Что я могу сообщить интересного какому-нибудь Джонни из Невады или Петеру из Гамбурга, если сроду его в глаза не видел, а дела у нас идут так, как идут? Какая у вас в Америке была в субботу погода, как поживает Сабрина, что нового на немецком рок — рынке? Ну, спрошу... Месяца через полтора узнаю: когда у нас шел дождь, в Неваде тоже было пасмурно... Вот для Лены Коротеевой — это занятое подходящее! Она всех девчонок переполошила, когда ей из ФРГ черные колготки с красными бабочками прислали. "И представляете, девочки, я же не просила! Ни словечка не закинула, не намекнула даже. Марта сама додумалась..." И трещала и трещала... Я думал, она умрет от счастья.
И за державу ей не стыдно было. Ну ни на грошик.
Впрочем, это не по делу. Письмо
я держал сугубо внутреннее, оно даже на почте на побывало. И вот это
было самым загадочным.
В конверте оказалась записка, довольно дурацкая. Она приглашала меня
на секретное свидание. Секретное потому, что непонятно было, с кем свидание.
Место встречи назначалось у справочного киоска, рядом с военной академией.
Это не так далеко и от моего дома, и от нашей школы. А еще указывалось
время. Надо ли было мне радоваться? Не знаю. Удивляться? Наверное...
И в самом конце такой выброс:
— Смотри, никому ни слова! Это в твоих и в моих интересах, учти!
Прочитал я про интересы и засмеялся. Дура ты, дура!.. Какие такие у нас могут быть общие интересы, если я даже не догадываюсь, кто прислал письмо?
Записку я спокойно разорвал. Это было в четверг, накануне предложенного свидания. Почему-то в пятницу подумал: "Сходить?" И стал прикидывать "за" и "против". Не буду врать — мне было интересно представить себе, как это бегают на свидания. В кино, по телевизору сто тысяч раз видел, а самому не приходилось. Но очень опасался розыгрыша. Явлюсь, а там никакой незнакомки нет, встречает половина нашего класса: "Привет, жених!.. Явился — не запылился!.." Ну и так далее, и тому подобное...
Теперь думаю: а так ли на самом деле следовало поступить? Нет, конечно. Но это моя беда — я замечательно легко умею себя уговаривать. Не хватает силы воли принять решение — и начинаю мотаться, как на качелях. С одной стороны — так, но с другой стороны... наоборот. Наверное, не я один такой урод. Принять окончательное решение — это самые толковые люди подтверждают — трудно, но еще труднее довести дело до конца.
Потелепавшись туда-сюда, я все-таки пошел.
Явился, поглядел на часы — порядок.
Неужели розыгрыш? Выманили, а теперь потешаются из-за угла? Надо что-то делать. Что? Принимаю самый независимый вид и решаю: жду ровно пять минут, а там — к черту!
Прошли и пять, и десять минут... Ну, все? Все! Пошел...
И тут ко мне подлетела та самая девчонка, которая была с Сашкой Лапочкой в скверике.
— Привет! Беба, — представилась она.— Я чуть не опоздала... Не будем мелочиться из-за пустяков. Пришел — правильно! Молоток! Есть разговор... Ну, Сашку ты тогда сделал Лапулю — блеск! — Она молола, как кофейная мельница, на десяти тысячах оборотах в минуту и без остановок.
— Почему ты Беба? — вклинился я все-таки в ее трескотню. — Что это означает — Беба? Это сокращение, да?
— Темнота! Беба — значит, Берта. Бертой была супруга Пипина Короткого, мать Карла Великого. Все католики празднуют четырнадцатого июля день святой Берты. Понял? Но ты лучше скажи, чего мы здесь торчим? Пошли...
— Куда?
— Или ты любопытный, или ты пустой — без тугров, без долларов? Да не вздрагивай из-за ерунды... Сделаем аск...
— Что сделаем?
— "Аск" по-таллиннски "сделаем"... Вот смотри и учись, пока я жива!
И раньше, чем я успел сообразить, что происходит, она разлетелась к проходившему мимо солидному, хорошо одетому, заметно поседевшему уже мужчине и со странно изменившимся вдруг произношением стала быстро-быстро говорить:
— Извинит-те тысч-чу раз... андерстен полун. Мы тал-линнск... экскурзии. Черных лебедей наблюдали? Эт-то особен-но — черны лебедди... Мы отстали от группы... Вы не могли бы...
— Ничего не понимаю,— смущенно произнес мужчина.— А лебеди-то, лебеди при чем?
— Ле-бе-ди? Эт-то душа! Моя, ваша... общая. Эт-то свободная душа мира. Я хочу лететь, как душа, лететь до самого Таллинна...
Он совсем смутился, этот бравый пожилой мужчина — можно было подумать, будто человек виноват в чем-то перед Бебкой. Он произнес скороговоркой:
— Вам нужны деньги, да? Сколько?
— О-о, много! Но эт-то не имеет значения... Сколько можете. Перышко — от крыла... Понимаете?
Больше выдержать я не мог и, тихо отступая, спрятался за киоском. Почему это наглое вымогательство называется "аск", при чем тут лебеди, при чем Таллинн? Мне было противно и неловко... Но я не успел ничего толком додумать, сообразить — подкатила Бебка. Между прочим, сегодня у нее не болтались две серьги в одном ухе и намазана она была совсем чуть-чуть. Бебка радостно, от уха до уха, улыбалась, скалила свои роскошные зубы и беззаботно объявила:
— Все! Видел, как я его на пять рэ сделала? Пошли, на кофе с мороженым... приглашаю. Алле марш в "Аиста"... Мы вольные птицы, пора, брат, пора...
Человеку надо и очень много, и почти ничего одновременно. Так, во всяком случае, я думаю. Чтобы не загнуться с голоду, требуется сущая чепуха. Чтобы исполнить каждое свое "хочу", может и всех богатств земли не хватить... Впрочем, мне следовало бы в данной ситуации думать не об этом, сказать ей: "Ни "Аист", ни ты, малохольная Бебка, мне совершенно ни к чему. Будь здорова, категорический привет!"
Конечно, ничего такого я не сказал. Не отважился обидеть. И неловко, и жалко, и "что она может подумать?"... "Аист" оказался задрипанной закусочной в задрипанном переулке. И ничего хорошего там не было. После "Аиста" — тоже...
Но сейчас я стараюсь восстановить хотя бы в приблизительной последовательности, о чем мы говорили, пока ели приторное, липкое мороженое, пока запивали его совершенно гадостным кофе. Собственно, говорили не столько мы — молотила почти исключительно Бебка: она хихикала, перескакивала с одного на другое, между делом очень смешно — это на самом деле было смешно — изображала и передразнивала других посетителей кафе. Прямо артистка Театра сатиры!
Всего мне не передать — попробую хоть
конспект составить, назвать главные ее темы, к которым Бебка возвращалась
снова и снова.
Сашка Лапочка совсем не ее парень, а так... "слегка знакомый".
Это она повторила пять тысяч раз!
Я ей понравился с расстояния в сто пятьдесят метров. Сразу. Она моментально поняла: "Сила чувак!" И так далее.
Жизнь надо "ломать"! 25 тысяч раз было сказано. Ломать — в смысле поворачивать в желательную тебе сторону. Никого не слушать. Решать самому. Хорошая жизнь стоит дорого. Умный умеет "жить красиво". В разных вариантах она повторила это сто раз! Дураки могут только завидовать, облизываться, в худшем случае — злиться и кидаться на умных с кулаками. Ты (то есть я) еще не знаешь, как живут красиво. В свое удовольствие, не по правилам дураков. Здесь она меня откровенно поддразнивала: то намекала — молодой, зеленый, еще сто лет расти, то, наоборот, давала понять: такой мужик, если только захочет...
У меня уже началось гудение в голове от ее безостановочного трепа. И когда мы, наконец, вышли из "Аиста", меня занимало одно: как бы ловчее смыться. Если это и есть свидание, то скажу откровенно: торопиться и переживать не стоило. Но, что называется откланяться мне не удалось.
— Схромаем в "бомбу"? — предложила Бебка.
— Куда? — не понял я.
— В "бомбу"! Не секешь? — она хохотнула. — Пошли, покажу.
ПОСЛАНИЕ МОИМ УЧИТЕЛЯМ
Уважаемые и неуважаемые, все педагоги, позвольте открыть в этом послании мою душу. Перед вами всеми, кто меня, кто нас учит и в меру своих возможностей воспитывает.
Достаточно
давно находясь в школе (три срока, что положено отбыть в армии!), каждый
день видя и на собственной шкуре ощущая, куда мы идем и куда заворачиваем,
я решил обратиться к вам, хотя знаю: вы охотнее говорите, чем слушаете,
особенно нас.
Нельзя ли сделать так: пусть общее время нашего ежедневного нахождения
в школе будет больше, а число уроков меньше? Пусть они, уроки, не налезают
один на другой. И хорошо бы, чтобы вы задавали на дом только чтение.
Предлагаю попробовать жить по такому распорядку: начинаем занятия в восемь, первый час тратим на мощную спортивную разминку. Разминка обязательна для всех — для нас и для вас...
Учиться начинаем с девяти. Два урока по одному часу и перерыв на два часа. В это время полезная работа, музыка, танцы. Все это в секциях. Кто чем хочет, тот тем и занимается. С часу до трех опять уроки по предметам. Дальше — перерыв. Обед. Можно проводить собрания, но (!) не дольше (!!) тридцати минут (!!!) заседать, а с четырех до пяти последний, хорошо бы, не самый трудный урок — или рисование, можно черчение, или обществоведение.
Вечером школа не должна закрываться. Вечером — развлечения и работа кружков. Вам давно надоело лечить нам каждый день мозги и повторять: нельзя без конца шляться по улицам просто так, невозможно часами отираться в подъездах и клеиться к прохожим, нельзя... Сами знаете, ч т о вы нам поете. И, мне неприятно признавать, вы правы — нельзя. Но куда нам деваться?! Вот я и предлагаю — не закрывать школу вечером.
Скажу вам еще кое-что.
Хорошо учиться можно — и даже не особенно трудно. Но для этого нужно к нашему старанию приложить и ваши усилия, уважаемые воспитатели. Пожалуйста, не орите на нас, не пугайте двойками, не повторяйте все время, что без дисциплины школа существовать не может. Не надо нас уговаривать: тише, мыши — кот на крыше. Подумайте, какая нам разница, даете вы "административную", "районную", "городскую" или аж министерскую контрольную? Для чего говорят, какая контрольная? Чтобы я дрожал? Это несерьезно. С меня что требуется? Наверное, знать, а не угождать директору или министру? Правильно?
Чтобы мы больше знали, делайте уроки интересными. Занимательными. Учитесь у того Перельмана, который сочинил когда-то "Занимательную физику" и другие занимательные книги. Сколько лет прошло, многое устарело, а все равно читать как начнешь — не оторваться.
Почему на уроках такая ерунда получается: сижу слушаю, стараюсь запоминать, а ничего не выходит? Вы думаете, мы все, как один, тупые? Нет.
Сегодня, наверное, каждый второй рассуждает: "Ну-у, не буду я знать какие-то там периодические дроби или не сумею отличить коническую проекцию земли от цилиндрической, так что? Свет не перевернется".
Согласен, с такой дикостью надо бороться, но как? Не двойками же, не криком! Наш математик, наш Ферзь, никогда не приступает к новой теме, пока не растолкует, где эта, допустим, геометрическая фигура или алгебраическая формула применяются в жизни. Можно рот от удивления открыть, когда он начинает про заточку резцов рассказывать, когда объясняет, как пользоваться курвиметром, в каких случаях, или — совсем вроде не по его части — толкует о чтении кривых на электрокардиограммах. У него всегда три минуты разговора по п о в о д у... подходящий к теме анекдот из жизни... И - порядок. Включились, поехали. Интересно!
Теперь пример "с другой стороны" — не от вас к нам, а от нас к вам. Изучаем историю Спарты. Я соображаю: был там мальчишка, которому лисенок прогрыз живот до кишок, а пацан даже не пискнул. Пусть это только легенда. Неважно. Важно другое: эта история о том, как в Спарте вырабатывалось пренебрежение к боли, вызывает у меня в памяти пионерский лагерь. Партизанский доктор Цессарский рассказывает нам, как он без наркоза извлекал из разведчика Николая Ивановича Кузнецова осколок. Мне хочется поделиться с кем-то, рассказать... Пожалуйста, не велите мне садиться, молчать и не выступать на посторонние темы! Там, где есть связка, обязательно появляется интерес. Скорее всего, я фиговый теоретик, не сердитесь. Но одно я точно понимаю: учить надо занимательно, весело. Вы постараетесь — и мы тогда тоже постараемся, да и некуда нам будет деваться...
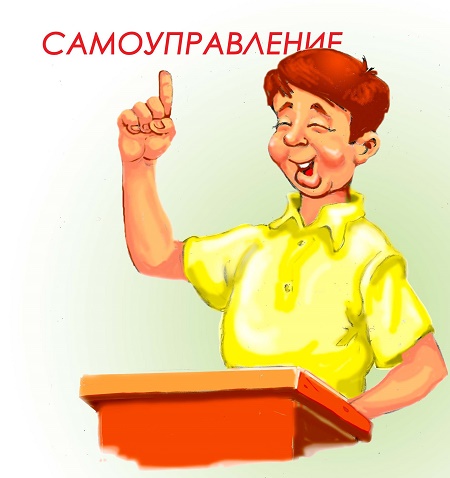 |
Не обижайтесь на мою откровенность, пишу, как думаю, самым наичестнейшим образом.
Наша школа очень унылая. Все вроде как надо — полы блестят, наглядной агитации по стенам — хоть отбавляй, горшков с цветами тоже хватает, штукатурка на голову не сыплется, а радости в нашей школе нет.
Придумали нам "самоуправление". Вроде и хорошо, и красиво... Только "начальников" из ребят столько выделили, что подчиненных, то есть рядовых Швейков, не хватает. Может, в других школах лучше, но в нашей от "самоуправления" только болтовни прибавилось, и та скучная-скучная. Мухи от этого трепа дохнут и тараканы у тети Клавы в буфете перестали усами шевелить.
Еще проблема.
Говорят, раньше были раздельные школы: для девочек — женские, мужские — для нас. Закрыли. Правильно: школа — не баня! А какое нам досталось наследство от той раздельной школы? Не думали, не замечали?
Не устали? Вы ведь не привыкли слушать. Ваше дело — говорить!
Все с ножом к горлу подступают: курить вредно и опасно! От курения бывает рак легких. Наверное, так и есть, раз на пачках сигарет стали предупреждение печатать: курение вредно для здоровья. Теперь стоп!
Положим, закуриваю я. Все орут: караул!., вредно!., брось!.. Согласен. Вы правы — я не прав. Но вот закуривает Дир. И — тишина. Извиняюсь, неужели это ему полезно? А-га, ему тоже вредно. Тогда почему никто не издаст закон, приказ, распоряжение, инструкцию — что там еще бывает? — в школе никто не курит. Строго запрещено, как на бензоколонке.
 |
Понятно: курящие учителя полезут в бутылку и станут качать права, ссылаться аж на Конституцию. Дело ваше. Но я остаюсь на своей позиции: не курить — так всем. Кроме укрепления здоровья, такое положение очень бы укрепило равноправие, настоящее, а не кукольное (да, намекаю на "самоуправление" в том виде, в каком оно у нас есть).
Мне осталось сказать последнее.
Недавно учительница, имени которой я не назову по высшим соображениям и для ее же пользы, сказала про нас, ее учеников: "Какое же, однако, серое стадо вы представляете!.." Понятно, она имела в виду уровень нашего развития, воспитанность, может быть, еще и интеллект. И была, к сожалению, скорее всего, права. Обидно: правда глаза колет. Куда от нее деваться! Не буду возражать, только скажу то, что думаю: цвет "стада" не меньше чем наполовину отражает цвет самого пастуха...
Извините за откровенность, но вы же приняли мое прозвище "Вундеркинд" без возражений. Вундеркинду, наверное, можно чуть больше, чем остальным?
Самые лучшие учителя стараются научить
нас не столько задалбливать, запоминать какие-то истины, сколько думать.
Это очень, умноженное на миллион раз, правильно. Пожалуйста, задумайтесь
и вы над этим посланием вашего не самого последнего ученика.
С надеждой Кирилл Каретников — Вундеркинд.
24. Весна только-только еще началась. Пахло лопающимися почками, асфальт уже просох, и по переулкам носились крошечные смерчики пыли — неожиданно они взвивались, совсем как на картинке учебника, под которой написано: "Торнадо".
Возвращался я из школы. Настроение непонятное: и хорошо, и тоскливо сразу, а почему — понять невозможно. Иду я вижу: на перекрестке работает здорове-е-енный рыжий каток — свежий асфальт ровняет. А я запах горячего асфальта даже не могу передать как обожаю. Остановился и во все ноздря нюхаю. Ни с какими духами не сравню! Красота!
Стою, делать мне нечего, поэтому к работе катка приглядываюсь. Вот он промял черную полосу на рыхлом, дымящем синим асфальте по всей длине, мягко притормозил и пошел задним ходом. Но как? Катит след в след, до сантиметра точненько попадает... И снова, и опять, и еще...
Поглядел, кто в седле. Парнишка лет девятнадцати. Рыжий чуб по ветру! Модняцкая клетчатая рубашка на нем, затертые джинсы, все тип-топ на парне. Ну, с плаката человек — юный герой пятого океана, главную роль в фильме с пятью продолжениями... А если усы приклеить, вполне может и за капитана дальнего плавания сработать. Кино!
Только парень того не знает. Ездит и ездит,
без промаха прокатывается, аккуратно расширяя ровную, как стол, полосу.
Человек работал, а я стоял и удивлялся — надо же, как здорово! Вот про
такую работу, наверное, и говорят: сделано как по нотам...
Кто-то остановился позади меня и задышал чуть не в самую шею. Обернулся
— оказывается, Мурад Саидович. Он тоже из школы шел и тоже, как я, притормозил.
— Ловко! — говорит Мурад Саидович и цокает языком.
Понятно, Мурад Саидович в восхищении от рыжего капитана на рыжем катке! У нашего учителя физкультуры даже выражение лица сделалось каким-то праздничным.
— Смотри, как человек работает! — говорит он.— Хочется плакать от зависти. Ну почему я не стал водителем такой замечательной штуки? Катайся, радуйся — и никакой тебе дырки в голове! А тут — один руку сломал, другой ногу потянул, какой-то идиот снаряд испортил, двое других дураков подрались...
— Надоели мы вам, Мурад Саидовнч?
— Как сказать, Кирюша... Даже не знаю. Может быть, сам я себе надоел... Если гусар не убит в тридцать лет, говорят, это не гусар, а дрянь. Слыхал?
Странный день.
Поздно вечером я буду валяться на диване и представлять скачущих по зеленой степи коней и едва не до слез огорчаться, что за всю жизнь мне так и не довелось даже дотронуться до живой лошади, сесть в седло, вдохнуть запах конской гривы...
Эта мысль странным образом переключается на запах асфальта, убегающий из-под катка синий дымок и на невеселую ускользающую улыбку Мурада Саидовича. Тут и подумаю: тоскует человек по рекордам, которые не довелось побить, об олимпийском огне, что зажигают другие... Это плохо? Но почему? Что за странная привычка с утра до ночи нахваливать скромность? Я вот за что: человек должен знать себе цену! И мне всегда бывает противно слушать, что пусть, мол, люди скажут, хорошо или плохо я, например, пою или чего-нибудь еще делаю... не мне судить... как народ находит... и так далее и так далее. Ведь все это — одно притворство. Нет, я не защищаю наглость, самоуверенность. Ни в коем случае! Но знать, что человек может и чего не может, про себя знать — прямая обязанность каждого. Моя. Твоя. Общая!
А за окном будет бледное небо в дымах.
Дымы вроде покачиваются, и в такт с этими подозрительными покачиваниями
— не в сон ли меня клонит? — сами собой складываются строчки:
Тропя тропу, тропи.
Трубя в трубу, труби!
Идешь сквозь ночь — иди.
Любя — люби,
и ничего не жди,
ни славы, ни признанья,
ни счастья в наказанье...
Тропи,
труби,
иди!
Тропа сама — награда,
и большего — не надо.
Стихи из меня иногда лезут (именно так — лезут, как зубная паста из тюбика). Но это совсем не значит: Кирюха — поэт! И никогда я свои рифмованные мысли не стану посылать в "Огонек" или в "Пионерскую правду". Не собираюсь я ничего печатать, не думаю добиваться славы стихами. Стихи стихам рознь! Для собственного удовольствия может каждый, кому охота сочинять. Пожалуйста! И даже правильно будет сказать: от сочинения стихов человек не испортится. Но другое дело — стихи для людей, обращенные к людям.
Кто сказал: "Все сгорело дотла,
Больше в землю не бросите семя!?"
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время!
Вот такие стихи можно нести людям, печатать и гордиться ими. За такие
стихи тебя обязательно признают поэтом и будут ждать каждой новой строчки,
что ты сочинишь:
Она вынесет все, переждет —
Не записывай Землю в калеки!
Кто сказал, что Земля не поет,
Что она замолчала навеки?!
25. То веселенькое воскресенье я запомнил во всех подробностях.
Накануне отец вернулся из венгерского рейса. Позвонил уже поздно вечером, сказал, что только-только ввалился в дом, сутки ехал в сплошном дожде, устал как собака. Спросил у матери, можно ли ему зайти завтра, часиков в двенадцать, и добавил: "Тем более что кое-что надо будет вам вручить".
Слова, касающиеся вручения, мать повторила громко и откровенно осуждающим голосом, особенно "тем более".
Противно было слышать, как она выговаривала отцу, будто он что-то нехорошее или неприличное делает. А на факте посмотреть, она эти подарки, особенно заграничные, как, наверное, все вообще женщины, обожает. Доказать? Пожалуйста! Про каждую новую тряпку может или своей подруге, или соседке Марии Алексеевне целый час рассказыватъ — и откуда эта шмотка, и чье производство, сколько бантиков на ней и какие оборочки симпатичненькие.
А если откровенно, на вопрос отвечать, как мама могла бы шикарно одеваться, если бы не отец?
Сама говорит, сколько раз слышал: "На нашу музейно-архивную зарплату не разгуляешься", а ходит всегда в модном и дорогом. Приятно поглядеть, какой у нее вид. Особенно — по воскресеньям. Не могу ее понять, ведь отец совершенно не обязан ей ничего возить. Разошлись — все! Мог бы считать: гуляй, подруга дней моих далеких, самостоятельно. Я — вне игры.
Такие у меня были мысли, но матери я ничего не сказал. Она бы сразу начала: "Не твоего ума дело... что за привычка вмешиваться во взрослые отношения...", ну и еще двести тысяч пояснительных слов на ту же тему. Так-то оно так, может, и правильно даже. Но мне отец все-таки не посторонний, мне он не Товарищ по работе...
В воскресенье я убрался, у себя в комнате блеск навел, в коридорчике тоже, стал на кухне возиться, но мама меня прогнала с изумительной по глубине формулировкой:
— Не устраивай, пожалуйста, потемкинской деревни из нашей квартиры!
Ровно в двенадцать, как говорят, с боем
часов, звонок. Отец всегда приходит минута в минуту, хоть время по нему
проверяй. И никогда при этом не говорит какой-нибудь чепухи вроде: "Точность
— вежливость королей!" — или еще чего в таком духе.
Звонок тренькнул, я — к двери. С тех пор, как папа не живет с нами,
он никогда не открывает двери ключом, хотя я знаю: свой ключ у него
есть. Это точняк!
Открыл. Вижу, отец в кожаной куртке, в правой руке — дорожная сумка, пузатая, синяя, в левой — гвоздички. Нет, целлофанированным гвоздичкам я не удивился: он всегда приходит с цветами. Отец вошел, поздоровался с матерью, отдал ей цветы, стал снимать куртку, а она спрашивает:
— Что с тобой, Георгий?
— В каком смысле?
— Заболел? Или влюбился? Или на работе что-нибудь?..
— Неужели заметно?
И он рассказывает, как месяца полтора назад, вернувшись из очередного рейса, сдав машину механикам, по дороге домой завернул в магазин. Решил взять хлеба, молока, чего-нибудь на ужин. Набрал, притормаживает у кассы, чтобы заплатить. А кассарша — молоденькая, хорошенькая, с глазищами — предлагает ему лотерейные билеты. Хоть один.
"Всего тридцать копеек" — это она говорит Отец отвечает: "Я в азартные игры не играю". Кассирша строит ему глазки и говорит: "Умоляю: помогите план сделать! По билетикам тоже надо план давать".
Пока отец рассказывал, как та хорошенькая и молоденькая его охмуряла, я почему-то вспомнил Бебку и как та про лебедей лепила. Тоже гипноз... женский.
— И противно мне поддаваться,— говорит
папа,— и тридцати копеек не жалко, а неприятно, что нарушаю принцип...
— А дальше что? — поторапливает мать. И я замечаю: не терпится ей узнать,
что же у отца с той кассиршей получилось. Женщина!
— Представляете, этот билетик — я уже и позабыл про него — падает мне
буквально в руки вчера вечером, когда я держу в руках газету с таблицей.
Слетает билетик с полки: проверь меня!
Тут звонят в дверь. Мама открывает, слышно, как она здоровается с Марией Алексеевной, соседкой из сто восьмой квартиры.
— И дальше? — спрашивает мама, продолжая
разговор с отцом.
— Смотрю в таблицу, представь — есть. Мой номер.
— Выиграл?
— Да. "Москвич", как ни странно, выиграл.
— Не может быть! На единственный билетик! — охрипшим вдруг голосом говорит
мама и сразу спохватывается: — Поздравляю!
— "Москвич"? — переспрашивает Мария Алексеевна и решительно
включается в разговор: — Послушайте старого человека, Георгий Иванович,
я вам только добра желаю, сами знаете. Припрячьте пока билетик. Надо
на него найти хорошего покупателя. Для чего вам свой автомобиль, когда
вы и так сутками за рулем? Грузины, говорят, дают бешеные деньги за
счастливые лотерейные билетики.
Мама, я замечаю, с интересом поглядывает то на отца, то на Марию Алексеевну. Отец молча смотрит в стол. У меня почему-то портится настроение. Бесцеремонность какая... Когда-то эта Мария Алексеевна влезла объяснять, что мы с Олей подходящая парочка — жених и невеста, теперь отца учит! Что за люди?!
И тут я странным образом как бы отплываю от взрослых — на ум снова приходит Бебка.
Когда мы сидели в ее занюханном "Аисте", она молола, как надо правильно жить — легко, ни о чем не думать и, как Сашка Лапочка, разливалась на тему: мир полон дураков, они за нас должны работать, приходить нам на помощь, тащить, что называется, в клюве необходимые нам рэ... Много особенно не надо — большие деньги портят человека...
Меня возвращает в дом голос отца.
— Но позвольте, Мария Алексеевна, а при чем здесь грузины?
— Георгий Иванович, дорогой вы мой человечек, да загляните на любой рынок, потолкайтесь у прилавков, поглядите собственными глазками, кем представлен частный сектор? Вот тогда не спросите — при чем. При легких, при шальных деньгах они. Вы русский человек, Георгий Иванович, положа руку на сердце, многих ли сумеете назвать известных вам работящих грузин, кавказцев вообще? Все — жулье! Есть среди них более головастые, только работать им — чистое наказание. Спекулянты и торгаши, почище евреев!..
— Простите, Мария Алексеевна, я воспитан несколько по-другому. Я иначе воспринимаю национальную проблематику. Жуликов и проходимцев в любом народе хватает. Думаю, процент их в каждой нации приблизительно одинаков... Мне неловко за вас, Мария Алексеевна...
Подробность: мама, как я понимаю, демонстративно не стала занимать чью-нибудь строну. Дипломатка!
А я? Мне, признаюсь, все равно, кто грузин, кто армянин или даже китаец. Был бы человек. А вот такие споры неприятны — какие-то они стыдные. Потом мы сидели с отцом в нашей кухне, и разговор про машину продолжился.
— Не знаю, как быть... Машина мне и правда — вроде ни к чему. Может, взять деньги и ни о чем не думать? Деньги-то лишними не бывают. Верно? (Это к матери был вопрос, но она не ответила.) А с другой стороны, и "Москвичонка" упускать вроде жалко, тем более сам, задарма в руки идет. Ты как считаешь? (Это было спрошено у меня.)
— Не знаю..., — сказал я. Потому
что и на самом деле не мог себе представить, как ему, отцу, сделать
лучше.
И вот какой поворот изо всех этих разговоров получился: с того веселенького
воскресенья я только думаю и думаю про... деньги.
Куда ни повернись, кого ни послушай, все как сговорились — деньги, деньги,
деньги!.. Понимаю: без денег не прожить, но это должно быть очень скучно
— вот так: грести, грести и грести...
26.Странная штука: не украл, не нахулиганил, ничего такого, чтобы против шерсти, не сделал, а опять капитан Смирнов в милицию вызывает. Да, я испытываю явную вибрацию, и посильнее, чем по дороге в кабинет Дира. Вопрос: почему? Я ни в чем не виноват. Получается, вибрирую от одной мысли — что они могут со мной сделать. Выходит, я трус?
Но когда вошел в милицию, засиял улыбкой. Здороваюсь радостно. Это я себе назло. А капитан говорит:
— Садись, рассказывай, как жизнь молодая?
— Течет, — говорю, — моя молодая жизнь и особо не изменяется. "Я хочу быть тихим и строгим. Я молчанью у звезд учусь. Хорошо ивняком при дороге сторожить задремавшую Русь".
Странно, Есениным я капитана не опрокинул.
— "Хорошо в эту лунную осень бродить по траве одному и собирать на дороге колосья в обнищавшую душу — суму", — принял Смирнов мою подачу. (И вот что интересно — не взглянул на меня победительно: ну как? Знай наших!).
Отступив от Есенина, он вдруг сказал: — И чего только в жизни не бывает, Кирилл! Даже в этом омуте, где, кажется, ко всему привыкаешь... Приходит на днях старик — за семьдесят ему — чистый такой, аккуратный дедушка и делает заявление: "Мой паспорт — не мой..." Наши не сразу поняли, чего он хочет. А оказалось, сорок лет назад — чувствуешь, сорок! — он этот паспорт смахнул в больнице у соседа по палате. Для чего украл чужой паспорт? Знал, им "интересуется уголовный розыск", как он сформулировал, "интересуется грехами молодости, мелкими художествами моими", вот и подумал: с чужим паспортом начнет новую жизнь, и никто никогда не докопается. И мужику повезло. Не вычислили его, не отловили, сорок лет жил — не тужил: ел, пил, голосовал, работал и все прочее. Ни жена, ни дети ни о чем не ведали. И вот приходит к нам и делает заявление: "Я — не я!" Как ты думаешь, Кирилл, чего его к нам принесло?
— Трудно сказать... А за этот паспорт, что он смародерил в больнице, сколько ему полагалось? — спросил я, совершенно не представляя, — штраф или тюрьма за такое.
— В данном, так сказать, конкретном случае деду ничего уже не грозило. За давностью преступления...
— Но он же, наверное, что-то объяснил? Сам.
— Объяснил? Да-а, два часа объяснял. Только понять его рассуждения было не так просто. Жил хорошо, семья нормальная, на работе уважение... Но и на работе, и ночами человека "грызло" — его слово. Где грызло, что грызло, почему?..
— Наверное, если проще сказать, совесть человека мучила, а?
— Возможно, вполне даже возможно. Совесть, она въедливая. — И без всякого перехода протягивает мне фотографию: — Скажи, Кирилл, эта особа тебе знакома?
Тут я отпал! На фото — Бебка! В одном ухе две серьги... Вот оно, начинается. Хотя, собственно, что начинается? Я ничего такого не сделал... Пока и все это прокручивал в голове, капитан смотрел на меня терпеливо, спокойно, как ни в чем не бывало.
— Не припоминаю что-то, — сказал я через силу и отдал Смирнову Бебку.
— Забавные пироги: ты ее не знаешь, а она тебя весьма даже знает.
— Как это понимать — весьма?
— Только не горячись, Каретников, и уж позволь сначала задать несколько вопросов мне. Известно ли Кириллу Каретникову общепитовское заведение под названием "Аист"?
"Все, схвачен, — понял я. — Деваться некуда, хитрить и петлять просто глупо".
— Предположим, в "Аисте" я был. Допустим, ел их паршивое мороженое, пил их гадостный кофе и закусывал пирожными. Так что — по закону нельзя?
— Кто говорит — нельзя? Можно! Значит, признаешь: в "Аисте" был, мороженое с кофе и с пирожными употреблял. Ясно. С кем ты был в "Аисте"?
— Вы же знаете.
— Знаю. И кто расплачивался — могу сказать с уверенностью, и даже какими деньгами, осмелюсь предположить. Догадываюсь, где ты валандался и после мороженого... Никак не могу понять, для чего тебе эта дрянь?
— Какая дрянь?
— Не прикидывайся наивнячком Иванушкой! Ты же отлично понимаешь, о ком и о чем я говорю. Берта Августовна Асинская, сокращенно Беба, давно у нас на учете.
Тут он похлопал по облезлому боку старого несгораемого шкафа.
— К сожалению, нам приходится встречаться с ней чаще, чем хотелось бы. Человек и не работает, и не учится, только числится то там, то сям. Сама откровенно заявляет: "Мое призвание — гулять, а работают пусть дураки..." Так за каким чертом, Кирилл, тебе такое общество? Ты же голова, вундеркинд...
Капитан говорил долго, рассказал мне о моем отце, вспомнил деда, потом про мать. Клонил он к тому, что я из хорошей трудовой семьи и так далее, и тому подобное.
Вообще-то он все правильно говорил, только я не совсем понимал — для чего?
— Знаю, что ты сейчас думаешь: когда
же он выключит свою шарманку? При чем тут родители? Тебя удивляет мое
тупое занудство — твержу одно и то же, одно и то же... Ведь так? Так,
точно. А теперь подумай и ответь: для чего я стараюсь, для какой цели?
— Должность Ваша обязывает, наверное, положение, служба.
— Положение, служба... Дуралей ты, Кирюха! Мне же смотреть больно, как на здоровых корнях восходит столь сомнительной устойчивости росток. Это ты — росток. Ты. Не ясно?
— Ясно!
— И не злись. Я же не с тобой — я за тебя воюю. А Беба со своей кодлой тоже на тебя вполне определенные виды имеет. Ну, прикинь: для чего шестнадцатилетней потрепанной девице понадобилось вдруг выманивать тебя на "секретное" свидание, тащить в "Аист", охмурять?..
— Действительно, а для чего?
— Нет, Каретников, этого, во всяком случае сегодня, я тебе не скажу. Напряги свою головку и подумай. Загреби пошире — маму, папу рядом поставь. Мы с тобой еще увидимся. А пока думай, Каретников.
Допустим, капитан Смирнов говорил чистейшую правду, допустим, он и на самом деле горой за меня. Могу поверить даже, что вся милиция только о том и горюет, как ей уберечь, спасти, поставить на пусть истины, возвратить обществу всех заблудившихся, оступившихся, опустившихся, сбившихся, зарвавшихся и отколовшихся... Можно, думаю, не продолжать — каких. Уже ясно. Ставлю ее усилия и намерения в заслугу милиции и всем ее капитанам, ориентированным на несовершеннолетних. Урраа! И залп из ста двадцати четырех орудий...
Но!!!
Если я свободный человек в свободной стране, если я не совершил ничего, о чем красноречиво толкует Уголовный кодекс, почему капитан Смирнов или любой другой тип в погонах имеет право сделать мне пальчиком: подь сюда, пацан! — и я должен на цыпочках лететь к нему?
Спрашивается, за что мне любить капитана Смирнова и всех остальных капитанов его службы? Терпеть — вынужден. А на большее пусть не рассчитывают. Может, я тут ни к селу ни к городу выскажусь, но все-таки позволю себе.
 |
Пацанов, самых еще маленьких, милицией пугают: вот придет дядя-милиционер — он тебя заберет и там узнаешь, как не слушаться, безобразничать или не есть кашу. Верно.
А теперь вот о чем подумайте. Этот карапузик растет, в головке у него откладывается: милиционер может то и так, чего никто не может. Проходит столько-то лет, тот пацаненок оказывается на службе в милиции. Ну, предположим, допустим — ведь откуда-то милиционеры берутся. И вот теперь начинается: старая заноза покалывает, под черепушкой у него что-то зреет, и мы имеем личность, не сомневающуюся в своем праве давить на каждого, грозить, щучить и так далее (читайте в газетах).
А мне говорят: уважай, люби! Это противоестественно — любить того, кто наступает тебе на мозоль да еще хорохорится. Вот так. Извините...
27. Пусть это даже очень плохо, но изменить я все равно ничего тут не могу — Вальку Сажину ненавижу до мозга! Что это за человек? Сосиска, нашпигованная глупостью, воображательством и всякой дрянью. Талант единственный — пожрать! Мы учились в третьем классе еще, когда она вызвалась на спор стрескать пятнадцать таких кругленьких кексиков в школьном буфете. По пятнадцать копеек за штуку. Восемь проглотила не запивая, на девятом попросила воды. Смотреть, как она старалась жевать, давясь и икая, было противно до невозможности. И я радовался, когда Валька спор проиграла: на одиннадцатом кексике ее вырвало...
Теперь она не берется на спор чего-нибудь пережевывать. Теперь она клеится к мальчишкам и пищит: ах, меня обижают, ах, ко мне пристают, ах, меня тискают...
Можно бы и больше про нее рассказать, да нeoxoта. Ненавижу я Вальку, хотя лично мне она до самого последнего времени ничего особенно плохого не делала.
 |
В понедельник я зашел к Оле. Она просила починить утюг и какие-то Ритины игрушки заодно подправить. Не первый уже раз, между прочим. Ну, пришел. Ритка с визгом ко мне, Олина мама улыбается, а вот сама Оля смотрит как-то хмуро. Особого значения я этому не придал, сразу принялся за утюг.
Ритка крутится рядом, Оля ее прогоняет. Мешает, мол, мне работать. А она и не мешала, но я смолчал: чувствую Оля хочет что-то спросить или сказать с глазу на глаз. И верно, только Рита с кухни выкатилась, Оля вроде между делом интересуется:
— Какие дела на белом свете?
— Что считать за белый свет? — отвечаю вопросом на вопрос.
Тут у Оли одна бровь заходила — когда она чем-нибудь недовольна, у нее всегда бровь дрыгается, — всю дипломатию и подходы отбросила и выдает мне на полную катушку: раз мы дружим, хитрить нам не надо, все должно быть между нами на откровенности построено... Конечно она, мол, никаких особых прав на меня не имеет, но быть в курсе моей жизни, наверное, может...
От такого заявления я прямо ошалел, а главное — ничего не понял. Так и сказал:
— Про какой ты курс, Оль, говоришь? Извини, но до меня суть дела не доходит.
— Жаль. И не очень верится, что не доходит. Но допустим... Тогда скажи: где ты в последнее время бывал кроме, понятно, школы и дома? Можно об этом спросить?
— Почему же нельзя. К бабушке ездил, был у отца, еще в милиция. Вызывали меня...
— Тебя — в милицию? Очень любопытно!
— Ничего такого, не первый уже раз таскают. Все подряд рассказывать очень долго будет, а началось со старых штанов... А последний раз — из-за Бебки...
— Все-таки признался! — Оля смотрит на меня в упор, а я не могу понять: или сейчас укусит, или заревет? А может, расхохочется? — Мне это важно было от тебя услышать. Валька на той неделе еще рассказала, как наблюдала тебя с этой... особой. Вроде бы прогуливались и прочее... Сажиной я не очень поверила, решила, сплетничает Валька, а теперь вижу...
— И чего ты, интересно, видишь? Ну, шел я с Бебкой по улице, а Сажина засекла. Ну? До этого Бебка записку прислала: надо поговорить...
— Все мне ясно, Кирилл, можешь не продолжать. О чем вы говорили, что обсуждали, это меня, Кирилл, не касается. Но своего доверия я ни с какими Бебками делить не собираюсь. Ты знаешь, как я к тебе относилась вот до этой самой минуты, только дальше я, наверное, так уже не смогу.
Тут Оля быстро поднялась с табуретки и ушла из кухни. Почти моментально, как чертенок из бутылки, появилась Рита. Она махом взлетела на Олино место, улеглась пузом на стол, уперла голову в руки и стала мне нашептывать:
— Сейчас Олька реветь будет. А ты не обращай внимания. Хорошо? Пусть не красится. Я предупреждала: будешь — скажу маме. Так она руки распускать, Олька! Как ее толстая Валька придет, так воображает!.. Все, как у себя дома, хватает... Вообще ты не думай, Кирик, я маме не жалуюсь. Ты мне веришь?
— Верю, верю...
Из сбивчивого Ритиного шепота я
понял одно: Оля водит компанию с Валькой Сажиной. Очень странно. Вот
уж кто ей совсем не пара.
Утюг я тем временем перебрал, подгоревшие контакты зачистил, изоляцию
заменил. Все сделал, как надо. И Ритины игрушки чинил. Втроем — Олина
мама, Рита и я — попили чаю. Оля на кухню больше не выходила. Я поглядел
на часы и стал прощаться.
Возвращался домой в сумерках. Здания, деревья, кусты — все выглядело как-то размыто, как при неточном фокусе. От этого казалось, будто в голове идет кружение...
Дома Товарищ по работе размахивал руками — просвещал маму, а она глядела ему в рот, как маленькая, когда мозги Красной шапочкой или золотой рыбкой пудрят. Я тихонько убрался в свою берлогу и первым делом взялся за словарь. У меня привычка: есть неясность — проверяю себя по справочной литературе. Герман Станиславович научил. Бо-о-ольшое ему за это спасибо.
Открыл словарь на "РЕВНОСТЬ" и прочитал: "Мучительное сомнение в чьей-либо верности, любви, в полной преданности, подозрение в привязанности, в большей любви к кому-то другому". Вот так, таким, значит, образом.
Я присел к столу и стал глядеть в окно. Фиолетово-серое небо выглядело каким-то ненадежным. Но я думал не о небе — заметил небесную серость мимоходом. Как же это глупо — ревновать меня к Бебке. Только возможно ли и надо ли объяснять Оле ее ошибку? "Чем меньше женщину мы любим... — да? — тем легче нравимся мы ей...", Пушкин! А мне подсказал эту его мысль Мурад Саидович, когда у нас разговор про так называемые сердечные дела нечаянно получился... Сколько в этих делах путаницы! Любовь, любовь!.. Тысячами люди балдеют, от книжек оторваться не могут, а все хотят выколупать что-нибудь такое... Ну, понимаете.
В прошлом году я стал читать "Яму" Куприна. Мать увидела — книгу не отняла, но дала понять, что недовольна, а сказала только: "Тебе рано — половины не поймешь".
Сначала мне было скучно читать, потом книга захватила и заинтересовала. Из этого произведения Куприна я узнал много такого, чего раньше не знал. Понял я, как правильно сказала мама, не совсем все, но одно с прошлого года знаю твердо: надо всем, что как-то относится к женско-мужским связям, смеяться не надо. Подло это — хихикать. И еще: почему-то всех женщин, всех девчонок мне теперь чуточку жалко...
В словаре нет понятия "омужичивание", хотя "облысение" есть. Слова нет такого, но это еще ничего не значит: в жизни много чего не так просто выразить. Вот и тот старик не хотел с чужим паспортом помирать, а почему пожелал к себе, к своему имени возвратиться — высказать не сумел...
И я не все могу выразить. Стараюсь
представить, пока пишу книгу, а сколько же времени разделяют, например,
первое мое попадание в милицию, когда тот майор из военного патруля
меня сдал, и аврал, который мы учинили в Олиной квартире перед возвращением
ее отца из больницы, — и путаюсь. Иногда события сливаются, как бы приближаются
сами собой друг к дружке, а бывает, наоборот, растягиваются. Странно,
да? Не могут же на самом деле какие-то недели быть длиннее других. Все
одинаковые — это закон!
Недавно Мария Алексеевна ни с того ни с сего — даже не ко дню рождения,
а просто так — подарила мне толстенную книжищу "Пословицы и поговорки
разных народов". Я как загляну в этот талмуд — так ко мне сразу
пристает чужая мудрость и потом зудит, зудит, зудит по голове, не дает
нормально жить.
"Не по коню груз" — это японцы. Понимаю, не про меня, не про мое писание, а все-таки действует...
"Тяжелым хвостом нелегко вертеть" — мудрость корейская. Тоже, откровенно сказать, раздражает. Пишу, стараюсь и все время помню: скорее всего, я не за свое дело взялся. Но раз уж влез, как бросить? И потом, какая-то надежда, пусть ма-а-аленькая, меня все-таки не покидает. Я редко читаю фантастику. Почему-то эти книги меня не волнуют. Но в одной прочитал, как в будущие времена помолодела жизнь — министрами сделались шестнадцатилетние, науку толкали вперед тоже совсем юные — усы еле-еле у них намечались — ученые... Вот, может быть, для них, людей другого будущего, то, что я пишу, и не покажется мальчишеским нахальством и вторжением на чужую территорию?
28. Прошло сколько-то времени, отец сказал: берем "Москвич". В конце концов, как он выразился, "деньги дым: сегодня есть, завтра нет, а колеса — вещь!"
Мама на этот счет никакого мнения не высказала — дескать, она тут совершенно ни при чем. Но мне показалось, что мама к "Москвичу" относится неодобрительно и получать с отцом машину отпустила меня неохотно.
Конечно, разбираться в отношениях родителей, как наверняка считают взрослые, не нашего ума дело, но я все-таки замечу: маму понять куда труднее, чем отца. У нее на уме всегда есть что-то в запасе...
Но сейчас не об этом. Поехали мы с отцом получать "Москвич". Ехали часов сто и приехали на край города, к просторной огороженной площадке. Автомобилей тут было понатыкано — и не скажу сколько! Может, пятьсот, а может, и все пять тысяч! Когда машин такая толпа и они всех цветов — серые, вишневые, желтые, цвета морской волны — это очень красиво.
Сначала папа оформлял бумаги, потом нас повели выбирать машину. Было странно смотреть на тех, кто уже суетился на стоянке: один поднял капот и, казалось, хочет залезть с головой в двигатель, другой старательно хлопает дверками, еще кто-то пинает ногой колеса, все решительно при этом глупо улыбаются...
Отец поглядел на всю эту суетившуюся публику и сказал механику:
— Не возражаешь, если мы возьмем того, рыженького? Кто-то из суетившихся зароптал:
— И тут блат! Своих оставили, подобрали...
— Смотреть не будете? — лениво удивился механик.
— Пусть те смотрят, кто тысячи отстегнул, а мне — за тридцать копеек — можно и не привередничать...
Конечно, я и раньше ездил с отцом
и всегда замечал, как он красиво, едва дотрагиваясь до руля и переключателя
скоростей, ведет самый здоровейнейший тяжелый грузовик, как плавно он
тормозит и совсем неслышно трогается с места. Но в этот раз он меня
удивил! Во-первых, проверив давление в шинах, уровень масла и охлаждающей
жидкости в моторе, он сел за руль и на полном серьезе сказал:
— Ну, здравствуй, рыжатик! — После чего вставил ключ в замок зажигания,
нагнулся и... поцеловал баранку.
Во-вторых, когда мотор легко и тихо запустился, отец поглядел на меня с таким видом, как будто случилось что-то исключительное, и сказал:
— Надо же, с пол-оборота пошел! Значит, хочет иметь с нами дело, Кирюха.
И, в-третьих, перед тем как тронуться, папа открыл дверку, высунулся на полкорпуса наружу и чуть не целую минуту примеривался, насколько ему сдавать "Москвичонка", чтобы развернуться, не зацепив за препятствие.
— А ты знаешь, волнуюсь, — сказал отец. — Не привык я к такой мелюзге. — И он погладил руль.
Не берусь судить, как сильно на самом деле волновался отец, но машину вел, будто та была живая и могла понимать не только его движения, но еще и слова.
Первым делом мы заехали на бензоколонку. Когда горючее из тяжелого пистолета потекло в бак нашей машины, я подумал: как же приятно пахнет бензин! Раньше я почему-то этого не замечал. Заправившись, мы медленно поехали по городу. Я сидел рядом с папой и радовался: едем — хорошо! на своей машине — хорошо! папа рядом — хорошо! мы вдвоем — очень хорошо!.. Наверное, со стороны я выглядел надутым, самодовольным — словом, дурак дураком... А чего было гордиться — машину я не заработал, не получил в награду, даже не украл. Мое участие равнялось нулю! С неба, можно сказать, свалился рыжий "Москвичонок". На неизвестной мне площади, в совершенно чужом районе отец притормозил, велел подождать его в машине, а сам пошел в магазин. Делать мне было нечего, но я не жалел, что остался сидеть в машине: я трогал прикуриватель, нажимал на кнопки радиоприемника, дышал особенным запахом нового автомобиля. Запах был сильным и въедливым. От этого запаха чуть-чуть покруживалась голова, как на карусели.
Отца не было минут пятнадцать.
Когда он появился, выглядел занятно: в руках тортище пуда на три! свертков штук сто! Все это богатство папа сгрузил на заднее сиденье и говорит:
— Запоминай: Лю-ся... Людмила Михайловна Овча-ренко. Есть? Улица Строителей... Он назвал номер дома и квартиры. Я еще и не понял ничего толком, а ощутил какое-то беспокойство.
— Это еще кто?
— Та самая кассирша, как мне с трудом удалось установить, благодаря которой мы сделались автовладельцами. Спасибо надо же человеку сказать!
Возможно, он был прав. И мне не следовала болтать лишнего, но это всегда понимаешь задним числом.
— Хорошенькая и очень молоденькая? Глазищи — во! Помню, помню, ты художественно про нее рассказывал. — И тут же объяснил, что на улицу Строителей, за недостатком времени, я, пожалуй, заезжать не стану, тем более вон метро, так что без машины даже быстрее получится.
— А это не мой ген играет..., — с укором сказал отец. — Ну-ну, смотри, тебе виднее, куда спешить. Привет!
Прошла, пожалуй, неделя, обыкновенная, без происшествий неделя. И тут я совершенно случайно встретил отца на улице. Топал он пешим порядком и... не один. Рядом семенила длинными, как у цапли, ногами девчонка не девчонка... Она, как маленькая, держала отца за руку. С виду девчонка была постарше меня, но ненамного. Волосы белые, юбочка коротенькая и в клетку, свитер пушистый, в ушах болтались модняцкие серьги — здоровенные, из легкого металла! Сначала я подумал: та, из Киева. Но тут же засомневался: в Киеве росли близнецы, там еще братец имелся.
Почему-то я засомневался: подходить — не подходить? Не скажу, что эта фифа мне сильно не понравилась, нет... Но ничего окончательно я решить не успел. Папа увидел меня, развернул эту, в клетчатой юбочке, так, что мы оказались друг перед другом, можно сказать, нос к носу.
— Знакомьтесь! — слишком весело сказал отец. — Наследник моих миллионов. Имя — Кирилл, школьное прозвище — Вундеркинд. А это, Кирюша, Люся...
Он хотел что-то добавить, но меня вдруг понесло:
— Людмила Михайловна Овчаренко? С улицы Строителей... — Я назвал полный адрес и, ненавидя себя, спросил гнусным голосом Фаины Исааковны:
— Вы, случайно, не моя мачеха?
Ничего глупее я придумать не мог! Главное, сам же сколько раз возмущался, когда кого-то дразнили — жених и невеста... И потом, ну идут по улице два человека рядом, пусть он и она. Что же тут такого? Мне сделалось стыдно... Не стыдно, а как-то противно. И, как назло, сразу же в моей окаянной башке энциклопедический текст высветился: "Ревность..." и так далее.
Ляпнул и вырубился, стою дурак дураком и соображаю: нет, отец этой моей выходки так просто не оставит. Но прежде слышу голос этой:
— Мачеха? Я? Разве так может быть при живой матери, Кирюша? Занять вакантное место жены Георгия Ивановича я бы, возможно, и не отказалась, но он мне ничего подобного не предлагал, а я не напрашивалась. Ты зря, Кирюша, осерчал. Или я тебе так сильно не понравилась?
Сначала меня в жар шибануло. Пригляделся
— смотрит она на меня вполне дружелюбно, без подначки, а глаза синие-синие
и здоровенные, ну-у фары, а не глаза. Даже не могу высказать, какое
ощущение испытывал я, стоя на улице перед отцом и этой... Но надо же
было как-то реагировать, чтобы не подумала: "Вот придурок!"
И я сказал: "Наоборот, ты мне жутко понравилась. Пожалуй..."
— ...не стоит уступать старику?! — закончил за меня отец, переиначив,
конечно, то, что я собирался сказать. Он хмыкнул и, как тысячу лет назад,
еще до школы, протянул мне согнутый мизинец: — Мир?
— Мирись, мирись, мирись и больше не дерись! — запела Люся.
А я зацепился мизинцем за папин палец, как полагалось по законам детского сада.
Эта встреча заставила меня серьезно задуматься — что же такое дружба, товарищество, любовь и так далее, то есть отношения людей. Пока я хочу изложить предварительные (?) соображения. Где-то я слышал, а скорее, читал: дружба любви не помеха — одна у них сила и вера одна... Может, считать так правильно, но, может, не совсем...
Начну с дружбы.
Первоначально люди знакомятся, сталкиваются, сходятся чаще всего совершенно случайно. Пример: с Олей меня свел детский сад, мы оказались в одной группе, потом попали на соседние кроватки. У нее был шкафчик с зайцем, а мой — с грибочком, и тоже рядом. Другой пример: Леха попал в нашу школу и в наш класс потому, что его выперли из старой школы. Но могли бы и не выпереть — при другом раскладе событий (об этом я писал уже раньше).
Мне было интересно узнать, как познакомились мои родителя. Я не раз приставал к матери и у отца тоже спрашивал. Результат — две версии.
Если принять мамину версию, она увидела отца в доме общих знакомых (?). В тот вечер ей нездоровилось, а на улице лупил дикий дождь. Возникла проблема, как добираться до дому. Ехать надо было через весь город.
"И вдруг твой будущий отец говорит: "Если вы позволите, минут через двадцать вам будет подана машина". Я, понятно, обрадовалась и согласилась. Он сразу ушел и пропадал почти час. Вернувшись, сказал: "Извините, задержка получилась, непредвиденные обстоятельства. Колеса у крыльца". Мы распрощались с хозяевами, вышли на улицу, и... я чуть в обморок не грохнулась: перед подъездом стоял и громко фыркал здоровеннейший самосвал..."
Версия отца звучала иначе. Возвращался он со смены — полдня возил щебенку, дождь лупил сумасшедший, по асфальтовому покрытию аж пузыри прыгали. И увидал одинокую фигуру под зонтиком, в плаще из болоньи... Такая из себя несчастная, а точнее — "бездомно-потерявшаяся" (это его выражение). Ну, тормознул отец свой самосвал, распахнул дверку и крикнул: "Давай сюда!" Вместо того, чтобы ехать в гараж, притаранил мать к дому, где она тогда жила. А по дороге еще сообразил: девица заболевает. "От нее жар пер, все равно как от работающего двигателя". Довез и затащил на четвертый этаж.
И тут начинается самое смешное! Отец говорит: "Затащил, раздел, уложил в постель и уехал..." А мать шумит: "Не сочиняй! Ты меня до двери только проводил..."
Но все равно каждому, я думаю, ясно: и начало любовных отношений бывает тоже случайным.
А дальше — после самого знакомства — все зависит, я думаю, от: 1) Обстоятельств. Они могут помогать, а могут и препятствовать сближению. 2) Сходства или несходства, характеров. 3) И чего-то такого, что не имеет точного названия. Условно можно это что-то назвать "примагничиванием".
Если три причины оказываются благоприятными, люди сближаются, между ними возникает дружба. Большая или меньшая. Это зависит от того, много ли общего у них, достаточно ли им интересно вместе и так далее.
Говорят, друзья познаются в беде. Это утверждение очень сомнительное. Если человек — человек, а не скотина, он и вовсе незнакомому посочувствует, когда у того несчастье или горе. Друзья, мне кажется, скорее узнаются в радости. Как так? Совсем просто: радоваться чужому успеху и не завидовать может только настоящий друг, близкая душа.
Например, Леху я не могу считать своим близким другом. У нас совсем разное отношение к другим людям, вообще к жизни. Леха считает, что есть люди полезные (для него), есть никакие, а еще вредные (капитан Смирнов, допустим). Мне кажется, в его глазах я не вредный, хотя, конечно, и не полезный. Почему же все-таки мы и встречаемся, и проводим вместе время, и кое-чем делимся? Скажу о себе: скорее всего, из любопытства (с моей стороны), а еще — мне часто бывает Леху жалко...
А если посмотреть на мои отношения с Олей, тут ясно: на первом плане привычка — с детского садика существуем рядом — и очень сильная "примагниченность". Когда я в малышах ходил, во втором, в третьем классе, мог запросто и Вальке Сажиной и Гале Дамановой порцию отвесить, а Олю никогда не обижал. Рука как-то не поднималась. Раньше нас часто дразнили — жених и невеста, потом стали намекать на любовь. Может быть, и любовь, но точно я пока не знаю.
С Димкой Аверкиным мы в чистом виде товарищи, до дружбы у нас никогда не дойдет. Он ничего на свете, кроме радиодеталей и электронных схем, не видит и, главное, не хочет видеть. Фанат! Наверное, это хорошо — такая преданность своему делу, но его другом может стать только такой же фанат. Они уж будут понимать друг друга с полуслова. Это точно.
Мне трудно было бы ответить на вопрос, какими я вижу людей — хорошими или плохими? В одних — хорошего больше, в других — меньше. Все мы, вроде, из винегрета изготовлены: того, другого, третьего намешано. Чтобы кто-то из сплошной "хорошести" состоял — такого не могу представить. Если только отец...
Но о нем писать мне не хочется — в таком плане. Когда человека сильно любишь, это лучше держать при себе, а не звонить на весь свет. Прозвонить недолго... Так что молчу.
29. Этот день был очень даже замечательным!
Можно назвать его днем примирения. Но я не стану спешить, а расскажу
все по порядку.
Утром пошел в булочную. На душе оркестр: в школу не надо — воскресенье,
теплотища! Иду, тихонечко, принюхиваюсь: ей-богу, весна! Небо высокое,
чистое, блестит. Голубизна наверху невозможная. Торопиться мне не надо,
иду прокручиваю разные мысли в голове.
Недавно капитан Смирнов подкинул такую подлянку: "Ты,— говорит,—
мужик сознательный, имеешь правильные установки и мог бы вполне нам
помочь в борьбе с разными Бебками, Лапками и прочей чешуей... Иначе
эта плесень поползет и ой-ой-ой сколько приличных людей подпортит".
Для убедительности подбрасывает идейку: Бебка, мол, не просто так мной
заинтересовалась, ее подучили... И тут прицел дальний — на отца: он
же туда-сюда через границу ездит...
Все, наверное, правильно капитан по полочкам разложил. Но помогать ему... Нет, не по душе мне такое занятие. И данных подходящих нет: Кирилл Георгиевич Каретников — первостатейное трепло, а Смирнову для сотрудничества нужны скрытные, сдержанные личности. Так и скажу ему, когда опять позовет "на беседу"...
Вот приблизительно до этого места я успел додумать, а дальше все в голове пошло кувырком.
Гляжу, собачка. Чапает мне навстречу. Пуделек. Маленький, коричневый, вроде каракулевый. А ножки — пружинки: трап-трап-трап! Если вы не мечтали про собаку, не поймете — с ума сойти можно от такого собакевича. И кого это красавчик на новеньком красном поводке тащит? Олю! Про все наши разногласия и ее обиды на меня я, сами понимаете, забываю.
— Кто это, Оля? Да, позабыл, извини. Здравствуй... Откуда парнишка?..
— Подарили. Его зовут Лорд. У него паспорт есть.
И Оля начинает рассказывать целую историю. Как она просила собачку начиная с пяти лет, как не соглашались родители, как они рассуждали: живая душа в доме — хорошо, но..., а Оля все на своем стояла: хочу собачку. Капля камень точит: незадолго до смерти отец "почти согласился". И теперь, когда Олин папа умер, мама посчитала своим долгом исполнить его последнюю волю.
Вы замечали, как плохо выглядят дома после зимы? Вроде невыспавшиеся стоят, и стены в подтеках, и окна тусклые, вроде и стекол в них нет. А рядом черные ветки деревьев. Все это я вижу как бы между прочим, а мысль об одном: никогда у меня никакой собаки не будет. Я тоже просил, но мама сказала, как отрубила: или собака в доме, или она. Выбирай! Мама собак не любит, всех вообще... и боится.
Мне очень хотелось погладить каракулевую шерстку и подержать в руках красный поводок, но не просить же... Да и мало ли чего человеку хочется.
Только Оля — это Оля!
— Попробуй, как он тянет,— говорит она и передает мне поводок.— Чувствуешь? Такой маленький, а тащит, как трактор...
Так мы и шли втроем: Лордик, Оля и я. Он правда тянул здорово, даже удивительно — откуда такая силища?
И мы все шли, шли и шли... Я даже не знаю, сколько времени.
На этом рукопись Вундеркинда обрывается.
Дочитал, вздохнул с горечью и спросил себя: "Что же теперь делать? Проще всего сообщить в нескольких давно примелькавшихся некроложных словах о внезапной или скоропостижной кончине Кирилла и с тем идти в издательство хлопотать и доказывать..."
После уроков Кирилл задержался в школе: играл с ребятами из девятого в настольный теннис. Старшие его не гнали — он здорово играл, особенно клево подачу делал.
Домой вернулся, очевидно, часа в четыре или в начале пятого. Провернул фарш. Убрал квартиру пылесосом.
Делал уроки.
На черновике с решением задачек по алгебре
нарисовал фигурки веселых чертей, с толстыми задами и хвостами-завитушками.
Читал "Мифы Древней Греции". Закладка осталась на сто пятидесятой
странице. Простым карандашом отчеркнуты несколько строчек. Надо полагать,
эти строчки так и останутся загадкой Вундеркинда — о чем думал, почему
задержался именно на этих словах, теперь уже не узнать. "Люди и
боги везде прославляли героя. Но чем больше они говорили о нем, тем
сильнее завидовал ему Еврисей... И он окончательно решил извести Геракла
непосильной работой".
На полях рукой Кирилла: "Зависть!
Вот-вот!"
Около восьми вечера Кирилл вышел из дома.
Проследить за его дальнейшими шагами мне едва ли удалось бы без добросовестной
и заинтересованной помощи капитана милиции Никиты Васильевича Смирнова.
Спасибо ему.
Вот что он сказал:
— Каретникова я запомнил сразу. В нем личность просматривалась и характер.
Мне надо было выяснить такую подробность: кто промышлял порнографическими
картинками — Волынов Алексей или его дружок по прозвищу Сашка Лапочка.
Предъявляю Каретникову вещественные доказательства, а он, глазом не
моргнув, заявляет: "И вам не стыдно, капитан? Несовершеннолетнему
такое показывать?" Честно, смутил меня Кирюха, хотя я был уверен
— он эти картинки и раньше видел. Но держался принципа: товарищей не
подводить.
Я тогда подумал: кем же считать Каретникова! Противником? Смешно! Мы не с такими воюем, мы за них должны драться. Да-а, другие приходят, уходят и забываются, а Каретников — нет.
С помощью капитана Смирнова я узнал: в восемь с минутами Кирилл спускался по эскалатору в метро. Несколько раньше по этому же эскалатору сбегала Берта Асиновская. Ее преследовал пожилой, довольно грузный мужчина — Август Вацлавович Асиновский. Разгневан был Бебкин отец крайне.
На платформе разгорелась шумная ссора между дочерью и отцом. И даже когда, выкрикивая грозные ругательства, бурно жестикулируя, седой человек дважды ударил девчонку по лицу, никто не вмешался.
Установлено: между отцом и дочерью неожиданно возник Каретников. Кирилл пытался, по меньшей мере, загородить Берту собой. Это возбудило ее отца еще больше.
 |
— Не смейте вмешиваться, молодой человек!
— заорал он.— Это моя дочь!
— Какая разница, чья она дочь? Порядочный человек собаку не ударит!
— крикнул в ответ Каретников.
Наблюдавшая за скандалом публика не попыталась вступиться. Правда, кое-кто
подавал реплики: "Вот они пошли какие нынче, деточки!.." или
"Двое дерутся, третий на встревай". Но дальше такого рода
комментария никто не продвинулся.
Загремел поезд в туннеле. Тут возникла небольшая суматоха: наблюдавшие
перепалку подвинулись к самому краю платформы и теперь, когда заслышали
поезд, отхлынули назад.
Каретникова сильно толкнули, он ударился
о еще не полностью затормозивший вагон, потерял равновесие и упал на
платформу.
В двадцать часов сорок шесть минут на место происшествия прибыла бригада
"скорой помощи".
По пути в больницу Кирилл Каретников, не приходя в сознание, скончался.
Так это было.
Я разыскал самую первую учительницу Кирилла. Она уже знала о несчастье. И в конце нашего долгого разговора сказала: "Этого светлого мальчика я любила и продолжаю любить, хотя вовсе не считаю его таким уж безгрешным ангелочком. Он был настоящим. И я буду любить нашего Вундеркинда всегда. В этом нет никакой мистики: надо верить в бессмертие добра и справедливости, передающихся от человека к людям. Иначе для чего мы все здесь?.."
1984-1990 гг.
Тогда, сразу после несчастья, опубликовать написанное Каретниковым мне не удалось. Собственно, не мне, а тем, кто выпускает книги, а я править, менять что-то в рукописи категорически отказывался.
Сегодня очень многое в нашей жизни изменилось. Конечно, сам Каретников и оценил бы и изобразил это многое иначе. Но человека нет, и никто не смеет, по моим понятиям, думать за него, тем более публично...
Перечитывая текст Каретникова, я снова и снова думал, что такого парня невозможно не любить. Он был настоящим, а ведь это в человеке и есть главное. Хочу верить — новые редакторы поймут это, согласятся и напечатают рукопись настоящего парня такой, какая она есть.
P.S. Завершена публикация повести А.М. Маркуши "Буду любить всегда". К огорчению Анатолия Марковича гранки пролежали несколько лет после того, как из-за общего кризиса детского и юношеского книгоиздания их сняли с печати. Тем не менее, еще одно произведение Анатолия Марковича увидело свет, став сто восьмым по счету. Общий тираж книг А.М. Маркуши, изданных на 19 языках, давно перевалил за 15 млн экземпляров. Книги продолжают жить, воспитывать молодежь и звать ее в авиацию. В этом году при поддержке губернатора Вологодской области Вячеслава Подгалева была переиздана прекрасная книга "Я летчик". В Жуковском подготовлен к изданию сборник рассказов "По дороге к небу", к его "продвижению" в печать подключился летчик-испытатель Герой России А.Ю. Гарнаев.
"Вам — взлет", "Дайте курс", "Первым делом самолеты", "От винта", "100 лет как один день" — эти книги с согласия Ирины Ефимовны Маркуши выложены в интернете (большую работу для своих курсантов-парапланеристов и всех стремящихся в небо юношей и девушек проделал Вадим Тюшин). Перечитайте эти прекрасные произведения на сайте
Надеемся, что найдутся энтузиасты,
которые помогут сделать подарок всем любителям авиации: переиздать книги
прекрасного Человека, летчика-испытателя, писателя Анатолия Маркуши.